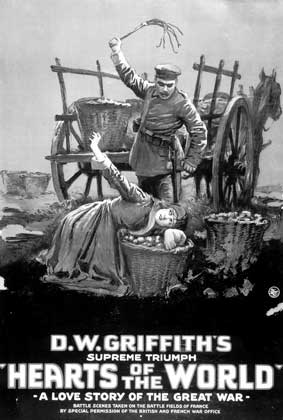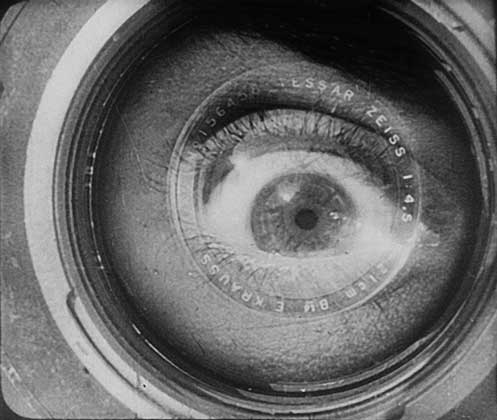КИНО ИСТОРИЯ
КИНО, ИСТОРИЯ.
НЕМОЕ КИНО.
От волшебного фонаря к языку киноповествования (…–1915).
Рождение кинематографа.
Первым описанием плоских движущихся изображений принято считать рассказ о тенях, «отбрасываемых огнем … на стену пещеры» в начале седьмой книги платоновского Государства (см. также ПЛАТОН). Описания, предвосхищающие кино, также иногда находят у Герона Александрийского и Клавдия Птолемея.
Однако если говорить не о сходстве разного рода метафор со знакомым нам явлением, а о реальной системе, позволяющей записывать и воспроизводить бесконечное разнообразие движущихся плоских изображений, то непосредственными предшественниками кинематографа были, во-первых, различные игрушки с сериями картинок, которые при быстрой их смене воспринимались как одно движущееся изображение (среди таких игрушек надо отметить т.н. «чудо-блокнот», «зоотроп» и «фенакистоскоп») – все эти системы позволяли воспроизводить не более нескольких секунд движения. А во-вторых, предшественником кино как системы был волшебный фонарь (также laterna magica – нечто вроде современного диапроектора), который в середине 19 в. часто снабжался приспособлениями, позволяющими имитировать некоторые виды движения.
Но создание кинематографа как системы воспроизведения достаточно длительного движущегося изображения, причем изображения совершенно произвольного (в том числе и полностью жизнеподобного) оказалось возможным только после того, как возникла фотография, а чувствительность фотоматериалов стала позволять снимать при коротких выдержках. Когда – с изобретением в конце 1870-х бромсеребряных желатиновых эмульсий, являющихся основой фото- и кинопроцессов по сей день – это произошло, практически сразу же стали разрабатываться различные системы записи движения.
В истории сохранились имена десятков изобретателей такого рода систем, работавших в самых разных странах (наиболее известны среди них англичанин Эдвард Майбридж и француз Этьен-Жюль Марей), но в большинстве случаев эти изобретения из-за финансовых или технических проблем не были доведены до конца. А те, которые были закончены, или создавали неудовлетворительные условия для восприятия – как системы Марея и Майбриджа, – или были резко ограничены в разнообразии типов возможных изображений – как, например, система француза Эмиля Рено, которая не использовала фотографию.
Первой успешной кинематографической системой были изобретенные Томасом Эдисоном и его инженером Уильямом Диксоном два приспособления – «кинетограф» («записывающий движение», снимающее устройство), а другое – «кинетоскоп» («показывающий движение», воспроизводящее устройство). Эта система была разработана в конце 1880-х – в начале 1890-х, патентная заявка на нее была подана в 1891, патент выдан 14 марта 1893, а первый коммерческий сеанс состоялся 14 апреля 1894. В силу этого Эдисона и Диксона можно было бы считать изобретателями кино (и так иногда и делают), но кинетоскоп был рассчитан только на индивидуальный просмотр, что, очевидно, не позволило тогдашней публике разглядеть в нем нечто большее, чем простой аттракцион. Из-за этого получившие первоначально довольно широкую популярность кинетоскопы через несколько лет вышли из употребления, оставшись в действии только в пип-шоу.
Поэтому изобретателями кинематографа признаны братья Луи и Огюст Люмьеры, которые были знакомы с конструкцией эдисоновской техники и, благодаря тому, что Эдисон не стал патентовать свое изобретение в Европе, смогли воспользоваться некоторыми его идеями. Их аппарат «синематограф» и дал название кинематографу. Люмьеры подали патентную заявку 13 февраля 1895, а первый публичный просмотр состоялся в Париже 22 марта 1895. Любую из этих дат (равно как и любую из перечисленных выше дат, относящихся к эдисоновскому изобретению) можно считать днем рождения кино, но официальным днем рождения признается 28 декабря 1895, когда был дан первый коммерческий сеанс синематографа в подвале «Гран кафе» на бульваре Капуцинов.
Люмьеровские сеансы состояли обычно из примерно десятка пятидесятисекундных лент. Как правило, показ начинался первым снятым ими фильмом Выход рабочих с фабрики Люмьер (La Sortie des usines Lumière, 1895), затем демонстрировались различные ролики, в которых обязательно имели место разнообразные виды движения (например, море, работающие кузнецы, гимнаст, завтрак ребенка, просто уличные сценки, разрушение стены – последний сюжет часто затем показывался в обратной проекции, и стена восстанавливалась). Но наибольшую популярность имели два ролика, которым Люмьеры в конечном счете и обязаны признанием в качестве родителей кино, – это Прибытие поезда на вокзал Ля Сьота (L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat, также Прибытие поезда, 1895) и Политый поливальщик (L'Arroseur Arrosé, 1895). В первом из этих фильмов поезд, подъезжающий к станции по диагонали кадра, так быстро и заметно увеличивался в размерах, что многие зрители в испуге вскакивали с мест: настолько был сильным эффект движения как бы из глубины плоской картинки – эффект, никогда ранее не встречавшийся в изобразительных искусствах. Именно этот фильм быстро принес популярность новому зрелищу, из-за чего его иногда ошибочно считают вообще первым в истории кино.
Если в большинстве остальных ранних фильмов Люмьеров показывались различные события, происходившие без участия кинематографистов, то Политый поливальщик был фильмом полностью постановочным, причем не просто постановочным (какими были, например, все фильмы Эдисона – Диксона), но первым в истории кино фильмом со вполне законченной повествовательной структурой, соответствующей всем канонам классической драматургии. В нем имела место экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчишка за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглянул в наконечник шланга), кульминация (мальчишка убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчишку, тот убегает). Этот фильм, несомненно, являющийся родоначальником всего игрового кинематографа, продемонстрировал раннему кинематографу путь, по которому он сможет рассказывать простейшие истории – путь использующих сценические методы однокадровых построений.
Ранние фильмы.
Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная («синематограф» можно было применять как для съемки, так и для проекции фильмов) и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. В первые годы существования киносеанс обычно строился по принципам, заложенным Люмьерами – несколько видовых фильмов, несколько уличных сценок, несколько комических сюжетов; причем повсеместной была практика копирования получивших популярность чужих лент (например, Прибытие поезда и Политый поливальщик существовали в огромном количестве римейков). Также стала формироваться кинохроника как отдельная ветвь кинематографа, и хроникальные сюжеты тоже включались в программу киносеанса.
Довольно быстро в кинематограф стали приходить люди, разглядевшие в нем возможности, гораздо более широкие, чем те, которые предвидели Эдисон (считавший его не более, чем коммерчески выгодным развлечением) и Люмьеры (полагавшие, что главная миссия кино состоит в фиксации событий для истории). Несомненно, крупнейшим режиссером рубежа веков был Жорж Мельес, начинавший свою профессиональную деятельность как театральный актер, режиссер, а также и иллюзионист. Он воспринял кинематограф как средство, способное значительно обогатить, прежде всего, трюковые возможности сцены. Развивая, по существу дела, идею сценического люка, Мельес пришел к знаменитому «волшебному превращению», когда видимый на экране объект вдруг резко изменяется или вообще превращается во что-то другое (для чего в нужный момент съемка ненадолго прекращалась). Аналогичным образом он пришел и к другим трюковым приемам (двойной экспозиции, совмещению разномасштабных изображений и пр.). С их помощью он создавал свои экранные феерии, где, например, спасаясь от живущих на Луне чудищ, можно было запросто упасть в море на Земле (в самом известном мельесовском фильме Путешествие на Луну (Le Voyage dans la Lune, 1902)).
Мельес не был изобретателем большинства приписываемых ему приемов – например, прием с остановкой камеры был известен уже Эдисону. Но, во-первых, благодаря ему эти приемы получили распространение. А во-вторых – и это гораздо важнее, – он значительно расширил возможности киноповествования, продемонстрировав, что кино может не только запечатлевать жизненные события и показывать смешные сценки, но также и рассказывать волшебные захватывающие истории. Также во многом под влиянием Мельеса в раннем кино утвердились прогрессивные на тот момент принципы театральной организации кинокадра: камера должна имитировать точку зрения зрителя партера, персонаж должен быть виден в полный рост, а боковое движение предпочитается всем остальным (чтобы избежать вредного для тогдашнего киноповествования шокового эффекта Прибытия поезда). Но главное, что сделал Мельес – он первым показал, что кино может быть искусством.
В большинстве ранних фильмов изучались главным образом внутрикадровые возможности кинематографа, но были также и авторы, обратившие внимание на способность кино формировать смысл и рассказывать истории с помощью показа серии различных изображений – на монтаж. По всей видимости, первым, кто применил в кино монтажную склейку был Мельес, который, очевидно, рассматривал ее как своего рода аналог театрального занавеса. Впервые она была использована Мельесом в фильме Спасение из реки (Sauvetage d'une rivière, 1896). Среди сохранившихся фильмов (вообще, из всех снятых на заре кинематографа фильмов сохранилось не более нескольких процентов), которые состояли из нескольких кадров, самым ранним является мельесовская же Луна с одного метра (La Lune à un mètre, 1898).
Но Мельес использовал монтаж только между эпизодами. На возможности же монтажных построений внутри сцены первыми, по-видимому, обратили внимание английские кинематографисты, известные под общим названием «Брайтонская школа». Это прежде всего Джордж Альберт Смит и Джеймс Уильямсон, которые в своих фильмах достаточно свободно применяли внутриэпизодный монтаж (впервые – в фильме Бабушкина лупа (Grandma's Reading Glass, Смит, 1900)). Также они использовали приемы, заметно опережавшие свое время (иногда даже на десятилетия, как, например, в случае с монтажным переходом через нерезкость в одном из фильмов Смита): параллельный монтаж интерьерных и натурных кадров, крупные и сверхкрупные планы, монтажную склейку на непрерывном движении и другое. Следует отметить, что вопрос о том, оказали ли брайтонцы реальное влияние на развитие кинематографа, или же их открытия не были замечены, является в современном киноведении дискуссионным. Вполне возможно, что существовали и другие опередившие свое время режиссеры, которые не только не оказали реального влияния на развитие киноязыка, но от которых не сохранилось ни фильмов, ни даже их описаний.
В начале 1900-х в кино заметно увеличился интерес к рассказу сложных историй, и ключевую роль в развитии и распространении необходимых для этого повествовательных приемов сыграл американский режиссер Эдвин Портер. Его фильмы Жизнь американского пожарного (The Life of an American Fireman, 1903) и особенно Большое ограбление поезда (The Great Train Robbery, 1903) представляют собой уже достаточно непростые повествовательные конструкции. В Большом ограблении поезда (которое с точки зрения истории жанров в кино является одним из первых вестернов) по мере развития событий с помощью монтажа камера (и вместе с ней зритель) свободно перемещается из здания железнодорожной станции на саму станцию, затем в почтовый вагон и далее следует вместе с поездом и грабителями. В конце этого состоящего из 14 планов-эпизодов фильма попеременно показываются события на станции и в лесу, где пытаются скрыться бандиты – то есть имеет место полноценное параллельное действие.
В фильмах Портера и многих других авторов постепенно осмысливаются пространственно-временные возможности монтажной склейки. Склейка не просто разделяет последовательно развивающиеся эпизоды, но способна перемещать нас в пространстве и во времени. Если временной аспект монтажного перехода кино 1900-х изучало крайне осторожно (иногда при необходимости время между кадрами могло уйти несколько вперед, но идея, что с помощью монтажа можно переместиться в прошлое, овладела умами кинематографистов только в середине 1910-х), то возможности пространственных перемещений изучались в этот период крайне внимательно. Значительную роль в этом сыграли т.н. фильмы-погони, сама структура повествования в которых требовала, во-первых, постоянного перемещения в пространстве, и во-вторых, внимательного отношения к расстоянию между преследуемым и преследователями – т.е. к пространственным отношениям. Элементы погонь содержались и во многих более сложных по содержанию фильмах, обогативших киноязык 1900-х – и в Большом ограблении поезда, и в Спасенной Ровером (Rescued by Rover, 1905) английского режиссера Сесила Хепуорта, и во многих фильмах крупнейших французских кинопроизводителей того времени фирм «Пате» и «Гомон», и в некоторых других.
Сложное повествование.
Ближе к концу первого десятилетия 20 в. кинематограф в целом овладел техникой несложного повествования – он научился рассказывать линейно развивающиеся истории, не претендующие на психологическую глубину, – и, тем самым, оказался готовым к освоению более тонких и психологически сложных элементов языка. Ключевую роль здесь, по-видимому, сыграл фильм наиболее выдающегося режиссера 1910-х Дэвида Уорка Гриффита Много лет спустя (After Many Years, также Энох Арден / Enoch Arden, 1908), вернее, две идущие подряд монтажные склейки из него.
На первой из этих склеек Гриффит перешел со стандартного общего плана героини на ее лицо и тем самым осуществил первый в истории кино переход на психологически мотивированный крупный план. До того кинематограф изредка пользовался крупными планами предметов (например, при необходимости показать какой-либо небольшой объект, который на общем плане просто не был бы виден) и даже крупными планами лиц (например, в снятом еще в 1891 – т.е. за несколько лет до любой из признанных дат рождения кино – эдисоновском фильме Фред Отт чихает (Fred Ott's Sneeze)). Поэтому значение гриффитовского нововведения состоит не просто в применении крупного плана как такового, а во введении его в монтажный контекст, где он и приобретал свое значение. Действительно, как показал в 1916 первый крупный теоретик кино Гуго Мюнстерберг в книге Фотопьеса: психологическое исследование (The Photoplay: A Psychological Study, также The Film: A Psychological Study. The Silent Photoplay in 1916), «крупный план объективировал в мире нашего восприятия психический акт внимания» – переход на крупный план героини имитировал усиление нашего (авторского и зрительского) внимания к ней. Если перейти с общего плана на крупный, где видно одно только ее лицо, зритель, во-первых, полностью концентрируется на нем, а во-вторых, он получает возможность увидеть мельчайшие нюансы ее мимики.
Крупный план «объективирует» не только наше внимание, но и, одновременно, внимание персонажа фильма: присмотревшись к выражению лица персонажа, зритель проникается происходящим у него в душе, и значит, следующий кадр может быть уже воспринят как изображение того, что видит (перед собой или внутри себя) персонаж. Именно это и происходит в следующей склейке из Много лет спустя, где Гриффит показал мужа главной героини, выброшенного кораблекрушением на далекий остров. Тем самым, вся эта монтажная конструкция была применена для того, чтобы чисто кинематографическими средствами изобразить то, о чем думает героиня – попросту говоря, переход на крупный план привлек наше внимание к тому, что она вообще думает, а переход с крупного плана показал, что именно она думает.
Обе эти склейки породили множество кинематографических приемов, повсеместное распространение которых привело к формированию того, что, собственно, и называется языком киноповествования. Изобретение психологически мотивированного укрупнения сделало осмысленным внутрисценический монтаж. Если более раннее кино в целом следовало принципу «одна сцена – один кадр», не видя необходимости менять съемочные точки внутри сцены, то после открытия, что приближение камеры к персонажу означает усиление внимания к нему, стало понятно, что любое изменение съемочного ракурса означает изменение акцентов внимания. Поэтому кино довольно быстро научилось составлять сцены и эпизоды из кадров, снятых с разных точек и в разной крупности в соответствии с психологическим значением данного элемента сцены или эпизода. А изобретение перемещения на то, что видит перед собой персонаж, создало весьма удобный (и часто просто необходимый) способ перехода с одного кадра на другой (также оно создало и новый весьма эффективный способ построения параллельного действия).
Все эти нововведения, развиваясь и усложняясь во множестве в том числе и второстепенных фильмов, за менее чем десятилетие оформились в систему киноповествования, в которой уже имелись все основные принципы, на которые опирается киноязык и сегодня. Это прежде всего относится к стандартному способу ведения эпизода: общий план, информирующий зрителя о месте и обстановке действия, участвующих в нём персонажах и их взаиморасположении (этот кадр является прямым наследником по-театральному организованной сцены раннего кино) – затем укрупнение на одного из персонажей, говорящего или делающего что-то — затем переход на адресата его слов или действий – и так далее, при этом как в середине эпизода, так и особенно в его конце возможен переход на общий план; все другие способы построения эпизода (начавшие активно формироваться к середине 1930-х и весьма распространенные в современном кинематографе) должны быть как-либо сюжетно, психологически или художественно мотивированны. В несколько меньшей, но также значительной, степени это относится и к приёмам пространственно-временной межэпизодной организации фильма – к последовательному и параллельному монтажу и пр.
Таким образом, – как пишет американский теоретик кино Кристин Томпсон в фундаментальной работе по истории классической повествовательной системы Классическое голливудское кино (Bordwell D., Staiger J., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960), «формирование классического метода началось довольно рано, около 1909–1911, и к 1917 система была закончена в своих основных повествовательных и стилистических положениях». Однако в области средств кинематографического выражения это утверждение относится только к монтажным способам повествовательной организации и до некоторой степени – к внутрикадровому повествовательному движению. Что же касается тех возможностей ведения повествования, которые связаны с движением самого кадра (камеры) – т.е. горизонтальное и вертикальное панорамирование, проезд, наезд, отъезд и вертикальное движение камеры, – они формировались гораздо медленнее: если сопроводительное панорамирование (когда камера следует за основным объектом, чтобы он не вышел из кадра) при необходимости применялось уже в 1900-е, то активное повествовательное движение камеры (когда, например, панорама обнаруживает сюжетно-важный объект, до того находившийся за кадром, или когда с помощью наезда увеличивается крупность объекта, к которому требуется привлечь внимание), за единичными исключениями, в раннем кино не применялось; постепенное осознавание заложенных в движении камеры повествовательных возможностей начинает происходить к концу 1910-х – в 1920-х, но реальное их осмысление происходит уже только в звуковом кино.
С развитием сложной психологически нагруженной техники киноповествования в начале 1910-х начинает меняться отношение к кинематографу, общество постепенно начинает осознавать, что кино — это не просто новая занимательная игрушка, новый вид балагана, но новое искусство. Крупнейшим свидетельством этого стало появление в 1908 во Франции течения, так и называвшегося: «Фильм д'ар» («художественный фильм», дословно: «фильм искусства»), которое привлекло к работе в столь непрестижной сфере деятельности крупнейших драматических актеров и стремилось поднять кино на высокий художественный уровень за счет театральных достижений. Однако слишком сильная опора на театральный опыт как раз в тот момент, когда кинематограф начал отказываться от театрального способа построения отдельных кадров и фильмов в целом, привела к тому, что ни «Фильм д'ар» как таковое, ни наиболее значительный фильм течения Смерть герцога Гиза (Убийство герцога Гиза, La Mort du Duc de Guise, 1908), не снискали значительного успеха.
Изменение общественного отношения к кино можно наглядно оценить, например, по стандартному содержанию киносеансов, которое свидетельствует о непрерывном росте интереса к сложным психологически нагруженным повествованиям. Например, если в 1904 в США среди официально зарегистрированных фильмов было 42% документальных, 45% комедий и только 8% драм, то к 1907 доля драмы увеличилась до 17%, а в 1908 согласно данным, приводимым Томпсон, произошел четырехкратный рост – до 66%. Также существенно возрастает продолжительность фильмов — если в 1900-х длина одной ленты, как правило, не превышала одной части (стандартный трехсотметровый рулон пленки — около 15 минут при обычной в то время скорости проекции 16 кадров в секунду), то в начале 1910-х нормальной практикой стало снимать фильм в трех-четырех частях. Дальше всех в этом продвинулись итальянцы, снимавшие дорогостоящие полнометражные картины на исторические темы – самые известные из них Камо грядеши? (Quo vadis?, 1912) Энрико Гуаццони и сильно повлиявшая на Нетерпимость Гриффита Кабирия (Cabiria, 1914) Джованни Пастроне, поразившая современников не только эпическим сюжетом и масштабными декорациями, но и эффектными проездами камеры в статичных сценах, не мотивированными повествовательно.
Фильмом, подведшим итог периоду, объединив все эти основные тенденции, можно считать гриффитовское Рождение нации (The Birth of a Nation, 1915). Этот фильм длится почти три часа, сделан с несомненной претензией на искусство (и таковым является – несмотря на выраженно расистскую идеологию), и в нем использовано значительное большинство имевшихся на тот момент приемов киноповествования.
Расцвет немого кино (1916–1928).
В следующем году Гриффит снял фильм Нетерпимость (Intolerance, 1916), состоящий из четырех независимых свободно переплетающихся между собой сюжетов из разных стран и эпох – Вавилона, Иудеи, Варфоломеевской ночи, современной Америки. По замыслу автора, все четыре истории – заговор священников против царя Валтасара, распятие фарисеями Христа, резня католиками гугенотов и вражда между рабочими и фабрикантом, приведшая к вынесению смертного приговора невиновному – должны были раскрывать многообразие проявлений недостойного человеческого чувства, вынесенного в заглавие фильма. Однако такое обобщение не только было слишком сложным для зрителя, чтобы он смог его вывести из фильма, но и вообще оно, по сути дела, из фильма не выводилось. Причина, приводящая во всех сюжетах к кровавым последствиям, может быть не только в нетерпимости (интересно, что российские прокатчики переопределили такую причину, назвав фильм Зло мира). Более, того, нет оснований считать, что в основе всех четырех историй лежит одна и та же первопричина.
В результате картина потерпела катастрофический провал в прокате (притом, что Рождение нации несколько десятилетий оставалось самым прибыльным в истории фильмом), и содержавшиеся в ней художественные достоинства и оригинальные кинематографические идеи не были оценены сразу. Между тем, фильм, по сути дела, знаменовал собой поворот в истории развития киноязыка. Переход от формирования смысла произведения через посредство содержания рассказанной в нем истории (в силу чего основными элементами киноязыка были те, которые обеспечивали повествовательные возможности) к формированию смысла с помощью изображения – как внутри кадров, так и между ними (в монтаже). В Нетерпимости были ростки обеих изобразительных структур – по глубине и емкости художественной организации кадра она заметно превосходит фильмы того времени. А попытка создать обобщающий смысл с помощью монтажа событий, не связанных между собой причинно-следственными связями, предвосхищает монтажные поиски второй половины 1920-х.
Двадцатые в США.
Но даже если бы не просчеты Гриффита при создании интеллектуальной конструкции Нетерпимости, вряд ли бы неповествовательные структуры киноязыка активно развивались на его родине. Американский кинематограф практически с самого начала (во всяком случае, с Портера) тяготел к максимальной повествовательности. Вероятно, это связано как с ориентацией англосаксонской культуры главным образом на слово (можно вспомнить, что даже многие дорожные знаки пишутся в Америке словами), как и с тем, что кинематограф никогда не воспринимался в США как главным образом художественная, а не коммерческая система. А с точки зрения коммерческой выгоды, вложения в изобразительно ориентированное произведение (успех которого никогда не может быть предсказуем) являются куда более рискованными, чем вложения в сделанный по четким проверенным рецептам фильм, следующий жесткой и надежной повествовательной структуре. Этим и объясняется как то, что киноязык обязан именно американскому кинематографу изобретением основных структур повествования, и что голливудские фильмы во все времена являлись образцом профессионализма и успеха, так и то, что с окончанием формирования системы киноповествования в середине 1910-х Америка перестала быть страной, определявшей направление развития кинематографа.
После того, как повествовательная система была создана, американское кино перестало нуждаться в ярких, но своенравных и непредсказуемых авторах-режиссерах (каким был, например, Гриффит), и стала ориентироваться на более поточную систему производства, центром которой является продюсер. Если первое десятилетие 20 в. принято называть операторским периодом в истории американского кино, период с 1908 (год прихода в кино Гриффита) по примерно конец 1910-х называется режиссерским, то затем начался продюсерский период. Одновременно заканчивается формирование системы звезд и устанавливается система жанров.
Наиболее важную роль в этом процессе сыграл Томас Харпер Инс, который начинал как актер и режиссер приключенческих фильмов, но уже с 1913 руководил постановкой фильмов других режиссеров, постепенно создавая принципы, ставшие основой голливудской системы кинопроизводства. Прежде всего, это идея, что основой фильма должен быть железный сценарий. Действительно, если главным в фильме является повествование, то вся его структура закладывается уже на уровне сценария, а дальнейшая реализация есть хотя и творческий, но достаточно стандартизированный способ воплощения этого сценария. Второе – это ориентация на звезд, поскольку зритель готов платить не столько за рассказанную историю, сколько за действующего в этой истории героя. Общую же координацию элементов фильма осуществляет продюсер, покупающий сценарий, приглашающий звезд и нанимающий режиссера для работы с ними. В общих чертах эта система, в разные времена становившаяся то более, то менее жесткой, сохраняется в Голливуде и ныне.
Тем не менее, в США 1920-х еще оставалась определенная авторская свобода, до некоторой степени позволявшая таким художникам, как Эрих фон Штрогейм, создавать не вписывающиеся в конвейерную систему производства социальные драмы – такие, как Глупые жены (Foolish Wives, 1922) и Алчность (Greed, 1925), – снятые в опережающей свое время визуальной манере: жесткое (как по рисунку, так и иногда по своему натуралистическому содержанию) экспрессивное изображение, стремление по возможности реже разбивать непрерывное действие монтажными склейками, многоплановые композиции (в том числе, сочетающие основное действие внутри интерьера и происходящее снаружи побочное, видимое через окно или дверь) и т.п. Однако большинство основных фильмов режиссера окончательно монтировались уже без его участия (и в некоторых случаях он был даже лишен возможности завершить съемки), а наиболее важная его картина Алчность была сокращена студией в четыре раза (правда стоит отметить, что в авторском монтаже она шла более семи часов).
В определенном смысле противоположностью фон Штрогейму был Сесиль Де Милль, ставивший художественно интересные ленты, не вступая в конфликт с продюсерской системой и обычно имея успех у публики. К концу 1920-х становится заметным Кинг Видор, который в осмысливавшем проблему взаимоотношений отдельной личности и общества в целом фильме Толпа (The Crowd, 1928) экспериментировал с движением камеры, отчасти предвосхищая технику, впоследствии разработанную Орсоном Уэллсом. Важной и весьма своеобразной фигурой американского кино был Роберт Флаэрти, создававший на разном этнографическом материале документальные фильмы о жизни человека среди дикой природы, самыми значительными из которых являются Нанук с Севера (Nanook of the North, 1922) и снятый в Великобритании звуковой Человек из Арана (Man of Aran, 1934).
Но, пожалуй, наибольшие достижения американского кинематографа 1920-х были связаны с комедиями. Родоначальником американской комедии является Мак Сеннет, с начала 1910-х снимавший т.н. «слэпстики» – фарсовые фильмы, развивавшие традиции цирковых трюков, строящихся на разного рода конфликтах человека и окружающей его предметной обстановки. Однако в классическом слэпстике сам по себе человек не имеет особого значения (являясь в лучшем случае некоей клишированной маской), и дальнейшее развитие американской кинокомедии происходит из осознания того, что приобретение комедийным персонажем собственного характера придаёт этому конфликту философское звучание.
Персонаж Гарольда Ллойда (Наконец в безопасности (Safety Last, 1923) и др.) представляет собой осторожного среднего американца, в конечном итоге преодолевающего враждебные обстоятельства. В отличие от него, персонажи двух крупнейших представителей жанра – Чарльза Чаплина и Бастера Китона, – наивные и благородные люди, находятся с внешним миром (с предметами, особенно являющимися продуктами индустриальной цивилизации, и с людьми – за исключением объектов их чувств) в неразрешимом конфликте. В картинах Чаплина (полнометражные немые фильмы – Малыш (The Kid, 1921), Золотая лихорадка (The Gold Rush, 1925) и Цирк (The Circus, 1928)) его инфантильный персонаж обычно стремится перевернуть обстоятельства в свою пользу и стать хозяином положения, но никогда не может долго им оставаться. Персонаж фильмов Китона (Три эпохи (The Three Ages, 1923), пародирующие конструкцию Нетерпимости, а также Шерлок младший (Sherlock, Jr., 1924), Генерал (The General, 1927), Кинооператор (The Cameraman, 1928) и др.), которого иногда называли «человеком с каменным лицом», производит впечатление заранее осознающего обреченность всяких попыток вписаться в законы человеческой цивилизации, но продолжающего делать то, что подсказывает ему чувство долга.
Немецкий экспрессионизм.
К концу 1910-х на первый план выдвигается кино северной Европы – Дании, Швеции и прежде всего Германии. Несмотря на поражение в первой мировой войне и сильнейший экономический кризис, немецкое кино испытывает подъем. Из всех направлений тогдашнего немецкого кино с точки зрения истории кинематографа важнейшим является движение, получившее название экспрессионизм, а основной фильм, представляющий это течение – Кабинет доктора Калигари (Das Kabinett des Dr. Caligari, Роберт Вине, 1919).
Этот фильм, поставленный на основе сценария крупнейшего деятеля киноэкспрессионизма Карла Майера, был снят в декорациях, созданных художниками-экспрессионистами из группы «Штурм», и это предопределило основную особенность картины: отказ от ориентации на привычное жизнеподобное повествование и построение фильма как последовательности полубредовых видений, разворачивающихся в воспаленном сознании. Декорации в картине не просто нереалистичны, они предельно искажают все мыслимые пропорции – прямые линии изломаны, вертикали тянет к земле, перспектива неестественно сужается, предметы обстановки неправдоподобны, лица людей похожи на маски. Эта картина, во-первых, показала возможность создания фильмов, ориентирующихся не на театр и литературу, а на живопись, а во-вторых, продемонстрировала способность кинематографа делать полноценные произведения, задачей которых является запечатление не реальности (или наших представлений о ней), а субъективных переживаний.
Первая из этих тенденций получила крайнее воплощение в полностью абстрактных фильмах Ханса Рихтера («ритмы»), Вальтера Рутмана («опусы»), Оскара Фишингера («этюды») и Викинга Эггелинга («симфонии»), в которых не было ничего, кроме движущихся и видоизменяющихся линий, геометрических фигур и пятен (при том, что абстрактная живопись возникла всего за десять лет до появления первого абстрактного фильма). Вторая тенденция привела к идее «субъективной камеры», как бы находящейся на точке зрения кого-либо из персонажей и перемещавшейся вместе с ним. Эта идея была последовательно проведена в фильме Фридриха Вильгельма Мурнау по сценарию Майера Последний человек (Der letzte Mann, также The Last Laugh, 1924), в котором, к тому же, отсутствовали титры – настолько полно и разнообразно были раскрыты в нем повествовательные возможности камеры.
В другом знаменитом фильме Мурнау – в фильме Носферату (Носферату – Симфония ужаса, Nosferatu – Eine Simphonie des Grauens, также Вампир Носферату, 1922), снятом по Дракуле Брема Стокера, ирреальная атмосфера создавалась не с помощью особых декораций, как в …Калигари, а прежде всего благодаря оригинальным приемам показа обычного мира – тревожному освещению, резким контрастам света и тени (при этом в Носферату Мурнау использовал в основном натурные съемки, что для немецкого кино 1920-х нехарактерно), вмонтированию негативного изображения в позитивную копию, изменению скорости съемки, приводящему к искажению скорости движения объектов и проч.
Наконец, самым заметным немецким режиссером того времени, чье непосредственное влияние отчасти ощущается и до сих пор (например, в некоторых видеоклипах), был Фриц Ланг. В его фильмах, как Усталой смерти (Der mude Tod, фильм известен также под многими другими названиями, 1921), Нибелунгах (Die Nibelungen, 1924) и особенно в Метрополисе (Metropolis, 1926) изображение разработано настолько продуманно, тщательно и детально, что может соперничать с живописным. Характерно, что визуальная выразительность фильмов Ланга идет в ущерб их повествовательному и идеологическому наполнению, за что режиссер постоянно подвергался достаточно жесткой критике.
Французский авангард.
В первой четверти 20 в. центром мирового искусства, как известно, был Париж, поэтому неудивительно, что после потери влияния на мировой кинопроцесс в начале 1910-х, через десятилетие Франция вернула себе место одного из законодателей кинематографической моды. Течение во французском кино, ответственное за это, получило название Авангард.
Авангард принято делить на два периода – ранний (также «первый», до 1924) и поздний (также «второй», начиная с 1924). Для раннего периода характерны эксперименты, обычно называемые импрессионистскими. Уже по этому термину можно понять и отличия поисков французских кинематографистов и немецких, и их сходства. Немецкий экспрессионизм ориентирован на выражение (express) внутренних переживаний человека вовне, что приводит к активному воздействию на запечатляемый камерой мир. А французский импрессионизм ориентирован на впечатление (impress), оказываемое внешним миром на человека, что, напротив, означает особое внимание к находящейся перед камерой реальности. Естественно, что немцы предпочитали павильонные съемки, где власть автора над изображаемым миром максимальна, а французы – натурные, где максимальна выразительность мира самого по себе. В то же время, в обоих подходах основной акцент переносится с событий и мира как такового на взаимоотношения мира и человека. Это в конечном счете приводит к равной степени субъективности обоих течений. Наконец, оба названия имеют четкие ассоциации с направлениями в живописи, что лишний раз указывает на изобразительную природу обоих течений.
Ключевой фигурой раннего Авангарда является критик, режиссер и теоретик кино Луи Деллюк. В его работах было введено в обиход понятие фотогении, рассматриваемой как родовое свойство киноизображения. Понятие весьма туманное, но которое, по-видимому, следует понимать как требование предельной визуальной выразительности запечатляемых на экране объектов. И хотя в фильмах самого Деллюка, равно как и в картинах других киноимпрессионистов (прежде всего, Марселя Л'Эрбье, Жермена Дюлак и, отчасти, Жана Эпштейна) имеются элементы, вполне соответствующие этому описанию, все же первый Авангард следует признать, скорее, временем поисков, нежели открытий.
В позднем Авангарде обычно выделяют три основные направления: опять же импрессионизм, сюрреализм и «чистое кино».
Более представительным было первое из них, в котором поиски раннего Авангарда привели к значительным результатам – например, в картинах Дочь воды (La Fille de l'eau, 1925) и Девочка со спичками (Маленькая продавщица спичек, La Petite marchande d'allumettes, по сказке Андерсена, 1928) Жана Ренуара, Падение дома Эшеров (La Chute de la maison Usher, по Эдгару По, 1928) Жана Эпштейна, в документальном фильме Альберто Кавальканти Только время (Rien que les heures, 1926) или в трех фильмах Дюлак, представлявших собой попытку создания визуального эквивалента музыкальному произведению (хотя все они были немыми, демонстрацию их предполагалось синхронизировать со звучанием музыки): Пластинка 927 (Disque 927, 1927) на музыку Шопена, Тема и вариации (Thèmes et variations, 1928) и Арабеска (Синеграфический этюд на тему «Арабески», Étude Cinégraphique sur une arabesque, 1929) – обе на музыку Дебюсси.
Влияние сюрреализма на культуру 20 в. весьма значительно, и сновидения всегда занимали заметное место в кинематографе, встречаясь уже в фильмах 1900-х. А сравнение всего кинематографа с миром грез и снов появилось уже в первые годы его существования. Тем не менее, наиболее нашумевшее направление во французском Авангарде, провозгласившее своей целью прямое воссоздание логики и атмосферы сновидения на экране, представлено во французском немом кино, по сути дела, единственным фильмом – Андалузским псом (Un chien andalou, 1928) Луиса Бунюэля, сценарий которого написан в соавторстве с известнейшим художником-сюрреалистом Сальвадором Дали. В этой картине с помощью стандартного кинематографического инструментария того времени выстраивается совершенно немыслимая с точки зрения как здравого смысла, так и логики киноповествования, конструкция, подчиняющаяся законам освобожденного от контроля разума подсознания.
К сюрреализму иногда также причисляют фильм Раковина и священник (La Coquille et le Clergyman, 1927) Дюлак, который является, действительно, отчасти сюрреалистским по сюжету, но все же совершенно импрессионистским по методу. Близко к этому направлению примыкает и работавший в Париже американский художник и фотограф Мэн Рей, снявший четыре фильма (самый заметный из них Возвращение к разуму (Le Retour à la raison, 1923)) преимущественно в технике «рейограмм», (название является контаминацией «рентгенограммы» и фамилии режиссера Ray, причем рентгеновское излучение по-английски X-ray), когда запечатляемые объекты кладутся прямо на пленку и покадрово снимаются без посредства обычной кинокамеры. Однако художественные корни его работ восходят не к сюрреализму, а к дадаизму, и он не пытается воспроизвести на экране работу бессознательного, а экспериментируя с формой, раскрывает новые возможности киноязыка (также по существу психологические).
В этом смысле Рей примыкает к третьему направлению позднего Авангарда, оказавшего наибольшее влияние на дальнейшее развитие киноязыка – к «чистому кино». В двух наиболее значительных фильмах этого направления – в Механическом балете (Le Ballet mecanique, 1924) художника-кубиста Фернана Леже и в Антракте (Entr'acte, 1924) (в первой его части) Рене Клера – отсутствует даже малейшее подобие сюжета. Смысл фильма возникает только из собственного значения изображений и из их монтажных и ритмических сопоставлений (из-за такого способа организации фильма эти картины иногда называют абстрактными, но, конечно, они не являются абстрактными в столь же строгом смысле слова, как фильмы Рихтера и др.). Среди других фильмов этого направления следует отметить Пять минут чистого кино (Cinq minutes de cinéma pur, 1926) Анри Шометта и Анемичное кино (Anémic cinéma, 1925) крупнейшего художника-дадаиста Марселя Дюшана.
Отдельно ото всех течений стоит французский фильм датского режиссера шведского происхождения Карла Теодора Дрейера Страсти Жанны д'Арк (La Passion de Jeanne d'Arc, 1928), построенный почти целиком на конфликте крупных планов Жанны и ее следователей, по существу выражающем с помощью чисто изобразительных средств разного рода идеологические, религиозные и философские оппозиции (вплоть до жизни/смерти), – в этом смысле фильм является предтечей религиозно-философских притч 1950–1960-х (которые снимал, в том числе, и сам Дрейер), но отличается от них неповествовательным способом выражения идей.
Наконец, особое место во французском кинематографе 1920-х занимает Абель Ганс – художник несомненно авангардный, но не примыкавший ни к одному из конкретных подразделений Авангарда. Еще в 1915 он снял фильм Безумие доктора Тюба (La Folie du Docteur Tube), в котором за четыре года до Кабинета доктора Калигари было применено искажение изображения с целью показа восприятия этого мира психически больным человеком. Однако этот фильм, судя по всему, не оказал никакого влияния на развитие киноязыка. Это связано как с тем, что снятый еще до Нетерпимости фильм уж слишком опередил свое время, как и с тем, что, в отличие от …Калигари, где фигуры людей и значительная часть плоскостей были неизменными, изображение в Безумии… было искажено сплошь (для чего были применены кривые зеркала и асферические линзы), что, вероятно, оказалось слишком сильным методом воздействия на тогдашнего зрителя.
Фильм Ганса Колесо (La Roue, 1923), сильно повлиявший на монтажные эксперименты в советском кино, был большим шагом вперед в осмыслении возможностей кинематографического ритма, и многие его фрагменты до сих пор являются непревзойденными образцами сочетания внутрикадрового ритма и ритма монтажа. Наконец, в Наполеоне (Napoléon, также Наполеон, увиденный Абелем Гансом, Napoléon vu par Abel Gance, 1927, фильм существует в нескольких версиях, ни одну из которых нельзя признать аутентичной) Ганс значительно расширил представления о возможностях киноязыка. Например, используя как бы субъективные точки зрения, не принадлежащие, однако, никакому живому существу (в отличие от Последнего человека), или снимая длинофокусным объективом, скрадывающим перспективу, или применяя полиэкран (прием, когда в разных частях экрана имеют место разные действия); и эти, и другие открытия, сделанные в Наполеоне, были до конца осмыслены только в кинематографе последних десятилетий.
Советское монтажное кино.
Дореволюционное российское кино в целом следовало европейским образцам (в особенности французским), не создавая произведений, способных повлиять на развитие мирового кинопроцесса. Крупнейшим дооктябрьским режиссером был Яков Протазанов, в чьем фильме Пиковая дама (1916, по Пушкину) были предвосхищены некоторые элементы кинематографа 1920-х. После прихода к власти в большевиков в 1917 в течение короткого периода до окончательного формирования в 1930-х тоталитарной системы, сделавшей невозможной сколько-нибудь свободное творческое самовыражение, происходил заметный подъем визуальных искусств – живописи, архитектуры и особенно кинематографа. Художники полагали, что принципиально новое идеологическое содержание должно быть облечено в новую эстетическую форму, и им удалось убедить власти поддерживать их авангардные эксперименты.
Если немецкие киноэкспрессионисты и французские киноимпрессионисты, развивая визуальные возможности кино, интересовались главным образом их внутрикадровыми аспектами, то центром интереса советских режиссеров второй половины 1920-х – равно как и французских представителей «чистого кино» – был монтаж. Среди крупных фигур советского кинематографа того времени акцент на изображении самом по себе делали только Григорий Козинцев и Леонид Трауберг и Александр Довженко, чей фильм Земля (1930), раскрывший способность камеры передавать почти религиозную одухотворенность природы, оказал впоследствии большое влияние на режиссеров, уделявших особое внимание состоянию предметного мира (особенно на Андрея Тарковского). Остальные значительные режиссеры искали новые средства визуальной выразительности преимущественно в монтаже (что в некотором роде является буквальным воплощением идеи радикального переустройства общества – фильм создается из отдельных кусочков, обретающих смысл только в сочетании друг с другом, подобно тому, как новый мир создается из переосмысленных элементов старого).
Хотя и в «чистом кино», и в советском кино основной упор делался на изучение возможностей монтажа, между характером монтажных экспериментов в двух кинематографиях имеется весьма существенное отличие: французские художники, сопоставляя кадры, интересовались главным образом тем, что содержится в них вместе взятых, советских же интересовало прежде всего то общее, что есть в них обоих. Иначе говоря, первых интересовало наложение и взаимодействие смыслов двух изображений. А вторых – извлечение из двух различных изображений некоего общего смысла (или, используя несколько рискованную параллель из области логики, можно сказать, что первых интересовало объединение смысла кадров, а вторых – пересечение). При этом общий смысл (или «третий смысл») может не выявляться в каждом из кадров, взятом в отдельности.
Основа этих поисков была заложена еще в конце 1910-х, когда Лев Кулешов поставил серию экспериментов, важнейший из которых привел к открытию «эффекта Кулешова»: если перед изображением актера, смотрящего с нейтральным выражением лица за кадр, дать изображение тарелки супа, то зритель воспримет эту монтажную конструкцию как воплощающую чувство голода, а если перед тем же самым планом актера дать план красивой женщины, то зритель обнаружит вожделение на его лице. Сложно сказать, действительно ли монтажный контекст может оказывать такое сильное влияние на восприятие актерской игры (сам Кулешов впоследствии высказывал некоторые сомнения в силе эффекта собственного имени). Важно здесь то, что два соседних кадра, сталкиваясь друг с другом, оказывают друг на друга значительное влияние (при этом первый кадр сильнее влияет на второй, чем второй на первый), которое зачастую приводит к образованию третьего смысла, и в любом случае выделяет то общее, что в них содержится. Эти общие составляющие вслед за Эйзенштейном принято называть «монтажными признаками», и с их помощью можно выделять элементы, существенные как для повествования, так и для образования неповествовательного смысла.
В важнейшем фильме кинематографа 1920-х – в Броненосце «Потемкине» (1925) Сергея Эйзенштейна – многие эпизоды строятся только с помощью сочетания кадров, имеющих общие признаки, игнорируя принципы монтажного повествования. Наибольшего эффекта такая техника достигает в кульминационном эпизоде кровавого разгона демонстрации на Одесской лестнице, когда в очень жестком ритме монтируются кадры, не только связанные монтажными признаками (или «анти-признаками», когда общим у двух кадров оказываются противоположные элементы), но и имеющие сильное эмоциональное наполнение.
В следующем своем фильме Октябрь (1927) Эйзенштейн продолжил исследование возможных монтажных признаков, предположив, что такой признак может быть выявлен зрителем интеллектуально, с помощью словесного абстрагирования. Наиболее известный пример – т.н. монтажная фраза «Боги», где путем последовательного показа все более и более архаичных религиозных скульптур, вплоть до едва обработанных деревянных идолов, Эйзенштейн надеялся навести зрителя на мысль: «бог – чурбан». Однако такое обобщение оказалось слишком сложным и к тому же не выводящимся из представленных кадров однозначно, чтобы оно могло работать (легко видеть, что ситуация сильно напоминает положение дел в Нетерпимости, только на уровне локальной последовательности кадров, а не фильма в целом).
Всеволод Пудовкин в фильме Мать (по роману Максима Горького, 1926) также исследовал смысловые эффекты, возникающие из сопоставления кадров, но его больше интересовали метафорические возможности, нежели логические (в этом смысле он ближе к Клеру, чем к Эйзенштейну). Например, в финале картины кадры революционной демонстрации параллельно монтируются с кадрами вскрывающейся реки и ледохода, обнаруживая этим, что и то, и другое является бурным течением, способным смести все на своем пути. Тем самым, оказалось, что обобщение даже высокого уровня проще создать в кинематографе с помощью изобразительных конструкций, нежели логических.
В определенном смысле, дальше всего продвинулись в чистоте монтажных экспериментов Дзига Вертов и возглавляемая им группа «киноков». Они создавали свои фильмы только из документального материала (вообще, отказ от использования традиционных постановочных принципов характерен для советского кино этой эпохи: режиссеры избегали пользоваться павильоном и часто занимали во всех ролях непрофессиональных исполнителей («типажей») – например, в Броненосце…, – в силу чего этот период в истории советского киноискусства иногда называют типажно-монтажным). Полнометражный фильм Человек с киноаппаратом (1929) лишен единого сюжета и не содержит пояснительных титров, и, по сути дела, он посвящен всесторонней разработке вариантов монтажных сопоставлений различных жизненных явлений, рассматриваемых прежде всего в их динамическом аспекте. Иначе говоря, конструктивной основой фильма является конфликт движения и статики, равно как и конфликт различных видов движения.
И в этом проявляется одно из основных открытий кинематографа 1920-х: возможность существования неповествовательной драматургии. Действительно, если драматургия есть ни что иное, как развитие во времени какого-либо конфликта, то почему этот конфликт обязательно должен быть конфликтом человеческих взаимоотношений? Точно так же это может быть и чисто изобразительный конфликт – Эйзенштейн, теоретически обосновавший в статье Драматургия киноформы (1929) возможность существования изобразительной драматургии, приводит десять видов таких конфликтов (графический, пространственный, световой, темповый, конфликт объемов и др.) – и каждый из них может столь же успешно формировать содержание фильма, как конфликт долга и чувства в классической драме. Изобразительная драматургия может существовать в кинофильме наряду с традиционной повествовательной, но может существовать и отдельно, что было убедительно доказано развитием кинематографа второй половины 1920-х.
РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОГО КИНО
Новые времена (1928–1945).
Приход звука.
Звукозапись старше кинематографа, и попытки синхронизировать изображение и звук начались одновременно с изобретением кино. Соавтор Эдисона Уильям Диксон утверждал, что ему уже в 1889 удалось создать «кинетофонограф» – прибор, позволяющий воспроизводить звук и изображение одновременно. Однако не существует никаких доказательств, подтверждающих его слова, и поверить в них трудно. Более того, вплоть до начала 20 в. Эдисон – изобретатель звукозаписи, считавший фонограф своим главным изобретением, и относившийся к кинетографу/кинетоскопу гораздо прохладнее – не прекращал попыток синхронизировать кинетоскоп с фонографом, и, потерпев неудачу, практически потерял интерес к своему менее любимому детищу.
В раннем периоде кинематографа, когда собственные возможности нового зрелища были весьма ограниченными, создать звуковое кино пытались во множестве стран, но этому препятствовали две основные проблемы: трудность синхронизации изображения и звука и недостаточная громкость последнего. Первая проблема была в конечном счете разрешена путем записи и звука, и изображения на одном и том же носителе, но для решения второй проблемы требовалось изобретение усилителя электрических колебаний звукового диапазона, что произошло только в середине 1910-х, когда киноязык развился в достаточной мере, чтобы отсутствие звука перестало восприниматься недостатком, и интерес к звуковому кино в значительной мере ослаб.
В результате патент на ту из систем звукового кинематографа, которая впоследствии совершила звуковую революцию в кино, ставшую впоследствии общепринятой, был получен еще в 1919. Но до середины 1920-х кинокомпании, желая избежать значительного удорожания производства и проката фильмов и потери иноязычных рынков, не обращали никакого внимания на возможность «великого немого» заговорить. Поэтому переход к звуковому кино был вызван внеэстетическими и внешними по отношению к киноязыку причинами: фирма «Уорнер бразерс», находившаяся в 1925 на грани банкротства, попыталась поправить свои дела, решившись рискованный звуковой проект. После его успеха за Уорнерами потянулись и другие, и в конце концов всем остальным не оставалось ничего иного, как перейти на звук.
Уже в 1926 «Уорнер бразерс» выпустила несколько звуковых фильмов, состоящих в основном из музыкальных номеров. Но особого успеха они не имели – успех пришел только с фильмом Певец джаза (The Jazz Singer, 1927), в котором помимо номеров известного музыканта Эла Джолсона присутствовали и его короткие реплики. Звуковое кино появилось вместе с живой речью экранного персонажа, и 6 октября 1927 – день премьеры Певца джаза – принято считать днем рождения звукового кинематографа.
Появление звука одновременно дало и новые возможности, и ограничило старые. В ответ на сообщения об изобретении звукового кино Эйзенштейн, Пудовкин и Григорий Александров в 1928 напечатали манифест «Будущее звуковой фильмы». Заявка, в котором провозгласили, что «первые опытные работы со звуком должны быть направлены в сторону его резкого несовпадения со зрительными образами», т.е. основным способом творческого использования звука в кинематографе – всех трех его видов: диалога, шумов и музыки – должен быть отказ от синхронности. Однако, за редкими нерешительными исключениями, не делавшими погоды в тогдашнем кинопроцессе, кинематограф 1930-х сосредоточился прежде всего на изучении разнообразных вариантов совпадения (или, осторожнее говоря, неконтрастирующего сочетания) изображения и звука. Отчасти это, видимо, вызвано политическими и экономическими причинами, о которых пойдет речь ниже, но главным образом это, скорее всего, связано с тем простым фактом, что прежде, чем что-то отрицать, надо изучить отрицаемое – проще говоря, прежде, чем заниматься несовпадением звука и изображения, надо было изучить особенности и возможности их совпадения.
Что касается ограничения уже найденных выразительных средств, то принято считать, что переход к звуку привел к потере большинства достижений кинематографа 1920-х, прежде всего монтажных, но в действительности, хотя средняя длительность кадра в раннем звуковом кино выросла почти в два раза, она зафиксировалась на отметке 9–12 секунд, которая продержалась практически без изменений до середины 1980-х, поэтому говорить о серьезной потере монтажных возможностей не приходится. Наоборот, увеличение средней продолжительности плана способствовало тому, чтобы кинематограф проявил повышенный интерес к движению камеры, не слишком активно применявшегося в немом кино, в результате чего разработка большей части связанных с движением камеры повествовательных приемов приходится именно на 1930-е.
Тем не менее, разнообразие используемых в кинематографе 1930-х художественных приемов и выразительных средств в целом заметно сократилось. Обнаружилась сильная тенденция к театрализации фильмов, чего не наблюдалось около двадцати лет после лент Фильм д'ар, и что проявилось, например, в резком увеличении количества экранизируемых пьес или в появлении большого количества т.н. talkies – фильмов, практически все содержание которых исчерпывается диалогом.
Но этому способствовало не столько то обстоятельство, что наличие возможности выражения существа происходящего с помощью слов позволяла кинематографистам не тратить усилия на изобретение специальных средств визуального выражения, сколько внекинематографическая реальность того времени: дело в том, что из четырех лидирующих в кино стран в трех авторская свобода была почти полностью подавлена. В СССР и Германии – утвердившимися в этих странах тоталитарными режимами, а в США – крупным капиталом, под полный контроль которого попал американский кинематограф в результате дорогостоящего перехода на звук и великой депрессии. Оставалась одна лишь Франция, но и там из-за удорожания кинопроизводства возможности авторов были резко ограничены.
Кино тридцатых.
В Соединенных Штатах практически вся кинематография оказалась поделена между финансовыми империями Моргана и Рокфеллеров, не заинтересованных в высоком художественном результате, если он не гарантирует прибыль. Это привело к значительному укреплению студийной системы, являющейся дальнейшим развитием продюсерской (при том, что даже руководители кинокомпаний редко имели возможность принимать самостоятельные решения), и предельному ограничению возможностей режиссеров – фактически, за режиссером оставалось только право следить за мизансценами и работать с актерами. В типичном случае режиссер получал уже раскадрованный сценарий (то есть такой, где была указана крупность, продолжительность и содержание каждого кадра), работал на площадке, но в монтаже фильма уже не участвовал; в Голливуде этого периода был единственный режиссер, имевший официальное право на окончательный монтаж – Джон Форд. Его самые значительные фильмы – Дилижанс (Stagecoach, 1939) и Гроздья гнева (The Grapes of Wrath, по роману Джона Стейнбека, 1941).
В результате, в этот период, получивший название «золотой век Голливуда», было произведено большое количество весьма качественных фильмов, сделанных по стандартным рецептам и лишенных примет авторского стиля. В некоторых случаях художественно значительное произведение удавалось создать как бы коллективно, без единоличного контроля одного автора: например, на фильме Унесенные ветром (Gone with the Wind, 1939), являющимся одним из наиболее ярких ранних примеров творческого использования цвета в кинематографе, сменилось три режиссера (Джордж Кьюкор, Сэм Вуд и Виктор Флеминг, в титрах указан последний), и кто более ответственен за цветовое решение фильма – кто-то из режиссеров, продюсер Дэвид О.Селзник, операторы Эрнест Хеллер и Реймонд Реннехен, или один из художников-постановщиков – понять трудно.
Среди режиссеров периода, сумевших в этих условиях сохранить в своих фильмах определенные черты авторской индивидуальности, помимо Форда можно также назвать Френка Капру, Джозефа фон Штернберга (самый известный фильм – Голубой ангел (The Blue Angel, 1929) с Марлен Дитрих, принципы работы со звуком в котором были достаточно смелыми для времени его создания) и Альфреда Хичкока, чьи основные фильмы, впрочем, были сняты только в 1950–1960-х.
Особое положение в американском кинематографе занимали авторы, обладавшие достаточными собственными финансовыми ресурсами, чтобы не зависеть от студийной системы. Таких двое: Уолт Дисней, чьи короткометражные мультфильмы конца 1920–1930-х были значительным шагом вперед в освоении возможностей ритмического сочетания изображения и звука в кинематографе (особенно в фильме Пляска скелетов (The Skeleton Dance, 1929)), полностью построенном как визуальная иллюстрация к Пляске смерти Камиля Сен-Санса, но и в остальных мультфильмах тоже; кроме того, в его фильмах также отчасти осмысливались возможности цвета), и Чаплин, который снял три самые значительные свои картины именно в тридцатые годы – Огни большого города (City Lights, 1931), Новые времена (Modern Times, 1936) и Диктатор (Великий диктатор, The Great Dictator, 1940).
Однако в целом приход звука привел к закату американской комедии, поскольку слова ничего не могли добавить к отточенным немым трюкам, а живой голос размывал целостность несколько условных характеров персонажей немых комедий. Поэтому Чаплин первые свои два звуковые фильма сделал фактически немыми (они были озвучены музыкой), а в полностью звуковом Диктаторе основные юмористические эпизоды по-прежнему бессловесны. Необдуманно продавший в 1928 свою студию компании MGM Бастер Китон был лишен возможности работать в таком стиле, его чисто звуковые фильмы были неудачными, и в 1933 он был уволен. В то же время, только в звуковом кино могли появиться братья Маркс, делавшие комедии абсурда, в которых классические условные персонажи (подчеркнуто условные) и бессловесные трюки с предметами сочетаются с парадоксальным расхождением произносимых слов и шумов с производимыми действиями (наиболее последовательный в этом отношении фильм – Утиный суп (Duck Soup, режиссер Лео МакКери, 1933)).
В кинематографе Советского Союза к середине 1930-х установилась система, достаточно близкая американской (некоторые элементы были даже позаимствованы непосредственно), с теми только различиями, что, во-первых, в организационном плане, вместо двух вертикально-интегрированных конкурирующих структур имела место единственная, с Иосифом Сталиным во главе. И во-вторых, в плане производственном, вместо сведения полномочий режиссера к минимуму имело место их чрезвычайное раздувание – мало где и когда власть режиссера была столь велика, как в СССР 1930-х. Но это обстоятельство не давало особой творческой свободы, поскольку все фильмы должны были подчиняться жестким требованиям «метода социалистического реализма», что приводило к однотипности произведений. При этом, в отличие от США, где несмотря на значительное сходство методов кинопроизводства, в конечном счете оно все же было ориентировано на зрительский интерес, в СССР основной задачей было воплощение определенных достаточно отвлеченных идеологем.
В итоге из всех советских фильмов 1930-х обращают на себя несомненное внимание три: Окраина (1933) Бориса Барнета, в которой лирическая атмосфера создавалась, в том числе, и с помощью оригинально использованных звуковых средств, немая картина Счастье (1935) Александра Медведкина, в первой половине которой сказовое повествование воссоздавалось с помощью лубочного по своей природе изображения (в одной сцене была даже применена обратная перспектива), и Александр Невский (1938) – первый звуковой фильм Эйзенштейна, который он имел возможность довести до конца, и где в кульминационном эпизоде ледового побоища проводились принципы «вертикального монтажа», т.е. организации изобразительного ряда в соответствии со структурой звукового.
Тоталитарная система в Германии 1930-х принесла еще меньше художественных результатов, чем советская – отметить можно только фильмы Лени Рифеншталь Триумф воли (Triumph des Willens, 1935) и Олимпия (Olympia, также Olympische Spiele, 1938), в которых формальная конструкция документального изображения подчинялась столь же строгим живописным законам, как в игровых фильмах Ланга.
Совершенно иная ситуация имела место во французском кинематографе, где не было ни государственного тоталитаризма, ни серьезного финансового диктата – мировой экономический кризис привел во Франции не к монополизации кинопроизводства, а, напротив, к банкротству крупных кинокомпаний и тому, что большинство фильмов выпускалось мелкими фирмами, также быстро разоряющимися и не могущими полностью лишить авторов свободы творческого самовыражения. В результате, хотя эксперименты в области «чистого кино» стали невозможными (однако, Бунюэлю удалось все же снять звуковой сюрреалистический фильм Золотой век (L'age d'or, 1930), а поэту Жану Кокто – Кровь поэта (Le Sang d'un poete, 1930), после чего попытки адекватного воплощения мира снов на экране надолго прекратились), и крайне затрудненными оказались поиски в области стерильного киноимпрессионизма (хотя именно в это время русский эмигрант Александр Алексеев снимает свою анимационную интерпретацию Ночи на Лысой горе Мусоргского (Une Nuit sur le Mont Chauve, 1933) с помощью изобретенной им техники рельефного игольчатого экрана), лучшие французские фильмы 1930-х можно описать как импрессионизм, пошедший на разумный компромисс с требованиями повествовательности.
Среди такого рода фильмов прежде всего следует отметить две картины Жана Виго – Ноль за поведение (Zero de Conduite, 1933) и Аталанту (L'Atalante, 1934) – до сих пор вдохновляющие поэтически относящихся к миру режиссеров, Под крышами Парижа (Sous les Toits de Paris, 1930) Клера, в котором, помимо интересного опыта сопоставления музыки и изображения, было впервые творчески осмыслено такое важнейшее выразительное средство звукового кинематографа, как тишина, и особенно фильмы Ренуара Загородная прогулка (Une partie de campagne, по Мопассану, 1936, фильм не завершен, прокат 1946) и Правила игры (Le Règle du jeu, 1939) – с последней картины европейский кинематограф обращает внимание на возможности длинного плана. Но в целом к концу 1930-х во французском кино заметно перемещение интереса с изображения самого по себе к тематическому содержанию картины – например, в исторических фильмах Ренуара Великая иллюзия (La Grande illusion, 1937) и Марсельеза (La Marseillaise, 1938), или в фильмах Марселя Карне Набережная туманов (Quai des brumes, 1938) и День начинается (Le Jour se lève, 1939).
Кино военного времени.
В истории первой половины 1940-х, наверное, нет ничего или почти ничего, не связанного со Второй мировой войной; соответственно, кинопроизводство большинства стран было переориентировано на военные нужды – на агитацию и хронику. Поэтому на первое место выходит документалистка: в Советском Союзе, в Великобритании, в Соединенных Штатах, где ведущие режиссеры игрового кино – такие, как Форд, Джон Хьюстон, Уильям Уайлер – снимали документальные фильмы о различных битвах, а под руководством Капры были созданы семь полнометражных неигровых картин под общим названием Почему мы сражаемся (Why We Fight, 1942–1945).
Тем не менее, производство игровых фильмов также продолжалось. В СССР Эйзенштейн поставил Ивана Грозного (1-я серия 1944; 2-я серия 1945, прокат 1958; 3-я серия не завершена), во второй серии которого решенный в цвете эпизод «Пир опричников» воплотил идеи Эйзенштейна о цветовой драматургии и продемонстрировал возможности динамического взаимодействия объектов разного цвета. Также следует отметить посвященную войне Радугу (1944) Марка Донского, некоторые эпизоды которой своей бытовой строгостью и лаконизмом непосредственно повлияли на зарождающийся в Италии неореализм.
Во Франции, несмотря на немецкую оккупацию, производство игровых фильмов сократилось только наполовину по сравнению с предвоенным уровнем, и при этом невозможность говорить об актуальных проблемах побуждала режиссеров снимать картины на отвлеченные философские темы, в результате чего некоторые авторы в годы войны сняли свои лучшие фильмы – например, Анри-Жорж Клузо (Ворон, Le Corbeau, 1943) и Карне (Дети райка, Les Enfants du Paradis, 1944).
Война не затронула существенным образом экономику США, более того, именно в это время были окончательно преодолены последствия великой депрессии, и появились некоторые возможности для экспериментального низкобюджетного кинопроизводства. Зарождается американский киноавангард, самой заметной картиной которого в этот период является фильм Полуденные сети (Meshes in the Afternoon, 1943) Майи Дерен – первая полностью сюрреалистическая картина после Золотого века, хотя и гораздо более примитивная по символике.
Внутри студийной системы возникает новый жанр, заметно отличающийся от основной голливудской продукции – т.н. «чёрный фильм» (самая известная картина – Мальтийский сокол (The Maltese Falcon, по роману Дешелла Хаммета, 1941) Хьюстона), в котором детективная интрига лишается самостоятельной ценности и оказывается средством для создания атмосферы безысходности, в которой победа главного героя над противником остаётся лишь мелким частным случаем, не способным повлиять на общий отрицательный расклад сил добра и зла в мире. Являвшийся своего рода смесью традиций американского триллера и нервной визуальной стилистики позднего немецкого экспрессионизма, черный фильм способствовал смягчению голливудских канонов, а впоследствии оказал влияние на французскую Новую волну (да и само название направления – film noir — принадлежит французским кинокритикам).
Но важнейшим фильмом 1940-х является законченный за несколько месяцев до вступления США во Вторую мировую войну Гражданин Кейн (Citizen Cane, 1941) Орсона Уэллса. В своем дебютном фильме Уэллс, получивший неслыханную со времен Гриффита уникальную авторскую свободу (исключение здесь составляет только Чаплин) и контроль над всеми стадиями производства фильма, воспользовался этим для того, чтобы преодолеть разобщенность различных пластов фильма и добиться, чтобы все они в равной мере работали на воплощение центральной идеи картины. Заглавным героем является газетный магнат, умерший в первых кадрах фильма, и расследование обстоятельств его жизни составляет стержень повествования. Жизнь героя раскрывается с точек зрения нескольких близко знавших его людей – таким образом, в фильме практически отсутствует привычная (особенно в голливудском кино) «объективная» точка зрения (она представлена в начале фильма стилизацией под выпуск кинохроники, который по существу ничего не сообщает о герое ни зрителям, ни смотрящим эту хронику персонажам), и картина представляет собой диалог различных субъективных мнений. Концепция субъективности воплощается на всех формальных уровнях с помощью психологически активных выразительных средств: жесткого агрессивного монтажа, или, напротив, длинных планов с активным движением камеры в них, но главным образом – с помощью глубинных мизансцен, в которых гипертрофирующая перспективу широкоугольная оптика (а также комбинированные съемки – в распоряжении Уэллса и его оператора Грегга Толанда в то время не было достаточно короткофокусных объективов) настолько искажала масштабные соотношения между близко и далеко расположенными объектами, как это возможно только в восприятии в состоянии аффекта.
Однако в отличие от Нетерпимости и Броненосца «Потемкина» фильм Уэллса не оказал немедленного влияния на развитие кинематографа. В меньшей степени это объясняется внекинематографическими обстоятельствами (фильм имел серьезные проблемы с выходом на экран из-за противодействия прототипа главного героя Уильяма Рендольфа Херста) и, по-видимому, в большей – неготовностью тогдашнего кинематографа к восприятию столь радикальных инноваций. В результате время этого фильма, последние сорок лет бессменно занимающего первое место в списке лучших фильмов всех времен журнала «Сайт энд Саунд» (Sight and Sound), пришло только в 1950-е, для чего сначала потребовались более плавные эволюционные изменения в кино, которые совершили итальянские неореалисты.
Возрождение (1945–1959).
Сложно уверенно сказать, почему возрождение кинематографа пришло после Второй мировой войны именно из Италии, но можно предположить, что это связано с надеждами итальянских кинематографистов и общества на национальное возрождение, не отягощенными ни горечью поражения и позором коллаборационизма, как во Франции (Италия была оккупирована немецкими войсками сравнительно недолго, а после этого победа союзников была воспринята и как победа национального сопротивления), ни шоком собственных военных преступлений, как в Германии (несмотря на то, что фашизм родился в Италии, итальянские фашисты не устраивали серьезного кровопролития ни внутри страны, ни вне ее – хотя бы потому, что им не удалось захватить ни одного иностранного государства), чей кинематограф стал снова играть заметную в мире роль только два десятилетия спустя.
Уже в 1945 появился фильм, признанный манифестом неореализма, Рим, открытый город (Roma, citta aperta) Роберто Росселлини, в котором события немецкой оккупации и итальянское сопротивление показаны как череда эпизодов, происходящих с обычными людьми в обычных бытовых условиях. Эти особенности картины в последующих фильмах развились в систему неореалистических требований: героями фильма должны быть люди из социальных низов (причем главных героев может вообще не быть – как в Риме, открытом городе), играть их могут непрофессиональные исполнители, снимать их следует в бытовых условиях – на натуре и в интерьерах, но не в павильоне (чему способствовало то обстоятельство, что римская киностудия «Чинечитта» была разбомблена при освобождении Италии), – и в типичных бытовых ситуациях, и т.д. И если в фильме Росселлини такие съемочные методы были просто наиболее адекватным способом раскрытия философской проблематики фильма, связанной с поведением человека перед лицом смертельной угрозы, то в последующих картинах неореализма уже сами выбранные социальные слои и бытовые условия их жизни стали образовывать содержание картины. Таким образом, основной тематикой фильмов неореализма стали социальные проблемы.
Вторым по важности фильмом направления являются Похитители велосипедов (Ladri di biciclette, 1948) Витторио Де Сики по сценарию Чезаре Дзаваттини – писателя и главного теоретика неореализма, – где кража велосипеда у главного героя приводила как к проблемам с выполнением его профессиональных обязанностей (в чем было социальное значение фильма, важное в тогдашних условиях), так и к проблемам в семейной жизни – герой был вынужден доказывать собственному сыну, что он сам взрослый и сильный мужчина (этим фильм интересен сегодня). К важным фильмам неореализма также относятся Шуша (Sciuscia, 1946), Чудо в Милане (Miracolo a Milano, 1950) и Умберто Д. (Umberto D, 1951) Де Сики, Рим, 11 часов (Roma, ore 11, 1952) Джузеппе Де Сантиса, Земля дрожит (La terra trema, 1948) Лукино Висконти, фильмы Пьетро Джерми, Альберто Латтуады и др.
Что касается Росселлини, то его работы достаточно быстро стали расходиться с общими тенденциями неореализма: если в фильме Пайза (Paisa, 1946) эти расхождения еще имели чисто эстетический характер (съемка длинными планами, драматургия, основанная скорее на эмоциональном развитии, чем на собственно сюжетном), то в дальнейшем он практически полностью сосредоточился на религиозной проблематике, мало интересовавшей остальных неореалистов (Любовь (L'amore, 1948), Франциск-менестрель божий (Francesco-giullare di Dio, 1950), Европа 51 (Europa 51, 1952) и др.).
Неореализм как единое направление просуществовал сравнительно недолго: уже к концу 1940-х его фильмы начали вытесняться стандартной коммерческой продукцией (снимаемой, в том числе, и некоторыми режиссерами-неореалистами), а в начале 1950-х, по мере разрешения итальянским обществом интересовавших неореалистов социальных проблем, он стал стремительно устаревать. Тем не менее, роль этого течения в истории кино крайне велика: во-первых, именно с него началось возрождение киноискусства. Во-вторых, из него вышли практически все крупные режиссеры итальянского кино 1950–1960-х – т.е. того периода, когда Италия занимала лидирующее положение в кинематографическом мире. В-третьих, он продемонстрировал возможность раскрывать достаточно сложные проблемы, используя при этом минимум как художественных, так и финансовых средств (что весьма способствовало развитию кино, например, во Франции конца 1950-х или в Индии, где Сатьяджит Рей в сходных полулюбительских условиях снял свою трилогию об Апу). Но главное, что принес в кино неореализм – это интерес к мелким бытовым подробностям и вообще увеличение внимания к показываемому на экране, что в конечном итоге позволило кинематографистом рубежа 1950–1960-х совершить несколько открытий в киноязыке.
Японское влияние.
В начале 1950-х ряд европейских и американских наград (призы Берлинского и особенно Венецианского кинофестивалей, «Оскар» за лучший иноязычный фильм) получили японские кинематографисты. В этом не было современного политкорректного интереса к экзотическим национальным кинематографиям – просто японцы показали европейцам и американцам такие возможности кинематографа, которые те не смогли оценить самостоятельно.
По всей видимости, это связано с особенностями дальневосточной культуры, не проводящей столь четкого, как в культуре Европы и Америки, противопоставления слова и изображения (достаточно вспомнить о иероглифической письменности, каждый знак в которой почти настолько же является картинкой, насколько и словом). И японская кинематография, освоив на ранних этапах разработанную на Западе систему языка киноповествования, в дальнейшем развивалась самостоятельно, исходя из этой и других особенностей национальной культурной специфики.
В результате этого многие элементы киноязыка, исследованные европейцами только в 1950-е, были известны японцам уже в середине 1930-х. Прежде всего, это возможность систематического применения в фильме длинного плана, причем, если в Европе и Америке первые эксперименты с этим приемом (у Ренуара и Уэллса) касались главным образом возможности значительного изменения содержимого кадра с помощью движения камеры, то в японском кино 1930-х длинный план был осмыслен как прием, при котором возможно существенно менять содержимое кадра за счет движения внутри него, при практически неподвижной камере (такое осмысление приема, очевидно, опирается также на традиции японского национального театра с его тщательным мизансценированием в неизменной на протяжении всего спектакля декорации). Этот прием, последовательнее всего разработанный в фильмах Кэндзи Мидзогути – особенно в фильмах Гионские сестры (Gion no shimai, 1936), Элегия Нанива (Naniwa ereji, также Осакская элегия, 1936) и Повесть о поздней хризантеме (Zangiku monogatari, 1939), – являясь средством ведения повествования, в общем не уступающим классической монтажной разработке, одновременно позволяет обратить особое внимание на самостоятельную выразительность изображения.
Естественным следствием динамического мизансценирования внутри в целом статичного плана оказывается глубинная мизансцена, также часто встречающаяся у Мидзогути – в указанных фильмах, и особенно в экранизации классической японской легенды Сорок семь верных ронинов эпохи Гэнроку (Genroku chushingura zenpen, в двух фильмах, 1941, 1942), снятой одновременно с Гражданином Кейном. Однако на европейское кино влияние оказали не эти картины Мидзогути (японское кино 1930-х заинтересовало европейских исследователей лишь в 1960-е, а снятые во время Второй мировой войны Сорок семь ронинов… вообще долгое время считались в Европе милитаристским фильмом, прославляющим имперский дух), а прежде всего более динамичная и не столь лаконичная по своей изобразительной стилистике картина, в которой незаметно стирается грань между реальным и ирреальным, Угецу моногатари (Повесть угецу, Сказки туманной луны после дождя, Луна в тумане, Ugetsu monogatari, 1953).
Но наибольший эффект на мировой кинематограф произвела картина Акиры Куросавы Расемон (Rashomon, по рассказам Рюнюске Акутагавы В чаще и Ворота Расемон, 1950). В этом фильме одно и то же событие (произошедшее в чаще убийство) рассказывается с четырех различных точек зрения, и ни одну из них в конечном итоге нельзя признать истинной. Тем самым разрушается представление о кино, как о системе, воплощающей события реального мира, и устанавливается его способность запечатлевать субъективные мнения и переживания. Субъективность мира этого фильма также воплощается с помощью глубинных мизансцен и жесткого, часто агрессивного рисунка изображения. Таким образом, параллель между Расемоном и Гражданином Кейном настолько очевидна (множественность личных точек зрения в повествовании, воплощенная с помощью психологически активного изображения вообще и глубинной мизансцены в частности; различие состоит по большей части в том, что в …Кейне изображение энергичнее, зато в Расемоне вообще отсутствует «объективная» точка зрения), что можно сказать, что снятый на девять лет позже и в более подходящую эпоху Расемон сделал в кинематографе то же и так же, что и как должен был сделать Гражданин Кейн.
Воздействие Куросавы на европейский кинематограф состоит не только в этом открытии, но также и в том, что касается самого подхода к изображению как системе, способной передавать психологически значимый смысл: например, непосредственное влияние другого выдающегося фильма Куросавы – Семь самураев (Shichinin no samurai, 1954) – ясно видно в таких разных картинах, как, например, Источник (Девичий источник, Jungfrukällan, 1959) Ингмара Бергмана и Андрей Рублев (Страсти по Андрею, 1966, прокат 1969, 1971) Андрея Тарковского. Вероятно, это воздействие в определенной степени связано с тем, что Куросава был по духу и кинематографической манере самым европейским из всех японских режиссеров своего времени (достаточно сказать, например, что ему принадлежит до сих пор считающаяся лучшей экранизация Идиота Достоевского (Hakuchi, 1951), и влияние писателя прослеживается и в других работах режиссера), что сделало его фильмы более доступными для понимания европейских и американских кинематографистов.
В этом смысле прямой противоположностью Куросаве является третий крупнейший режиссер японского кино, Ясудзиро Одзу, занимавшийся только специфически японской проблематикой, воплощаемой с чрезмерной на европейский вкус медитативностью: драматический конфликт в его произведениях (самые известные – Поздняя весна (Banshun, 1949) и Токийская повесть (Tokyo monogatari, 1953)) внешне не выражен, развитие действия замедлено, съемка ведется достаточно длинными планами с низкой точки (точка зрения человека, сидящего на татами – это характерная черта стилистики режиссера) практически неподвижной камерой. При этом часто случается, что ведущий персонаж покидает мизансцену, но продолжающая работать камера за ним не следует, и он на долгое время выходит из кадра (это, видимо, связано с особенностями эстетической концепции дзен, придающей особое значение пустому пространству между предметами), что в конце 1960-х – в 1970-е весьма заинтересовало европейских исследователей и кинематографистов как пример активного использования в фильме невидимого закадрового пространства.
Резюмируя, можно сказать, что японские режиссеры, прежде всего, обратили внимание европейских коллег на возможность соединения повествовательного и изобразительного пластов фильма в едином смысловом поле – здесь показательна кульминационная сцена боя в Семи самураях, характер монтажа в которой часто сравнивают с Одесской лестницей в Броненосце «Потемкине». Но если у Эйзенштейна названный эпизод развивается преимущественно изобразительно, повествовательно сводясь к формуле «кровавая бойня» (подаваемой в нарастающем напряжении, но без драматургических поворотов), то у Куросавы при сопоставимой изобразительной выразительности эпизод одновременно имеет заметное драматургическое развитие. В этом плане можно сказать, что японцы вернули европейцам их открытия, подняв их на новый уровень. Среди других японских достижений следует отметить привлечение внимания к возможности выражения на экране субъективных состояний (для чего ими были разработаны длинный план и глубинная мизансцена) и особый акцент на самостоятельную выразительность предметного мира. Причем если остальные нововведения можно найти и у Орсона Уэллса, то последнее является развивающим идеи французского киноимпрессионизма чисто японским достижением.
Западноевропейский кинематограф пятидесятых.
Европейский кинематограф начала 1950-х находился, с одной стороны, под впечатлением итальянского неореализма, продемонстрировавшего художественные возможности, таящиеся в заурядных бытовых событиях, а с другой – под влиянием японского кино, раскрывшего возможности объединения повествовательного и изобразительного пластов фильма. Третьим важным фактором, воздействовавшим в то время на кинематограф всех стран, была экономическая стабилизация и удешевление кинопроизводства, что ослабило внешнее давление на кинематографию и привело к значительному увеличению авторской свободы.
Таким образом, создались все возможности для интенсивного развития кино, которое вскоре и последовало; однако характер этого развития заметно отличался от того поступательного движения, которое имело место в немом периоде. Тогда последовательно обнаруживались фундаментальные основы киноязыка, и каждое такое открытие неизбежно сказывалось абсолютно на всех фильмах; здесь же выявлялись такие аспекты киноязыка, без которых каждое конкретное произведение может и обойтись. Поэтому кинематограф 1950–1960-х одновременно развивался в нескольких направлениях, в силу чего соблюдать при его описании хронологически-территориальный принцип становится затруднительно.
Первое, что следует отметить в кино этого периода – многие режиссеры, успешные в довоенном кино, обретают второе дыхание (как правило, игнорируя при этом новейшие открытия в области киноязыка): во Франции это такие художники, продолжавшие работать в классической повествовательной технике, как Клер (Молчание – золото (Le Silence est d'or, 1947)), Кокто (Орфей (Orphée, 1950)), Ренуар (Завтрак на траве (Le Déjeuner sur l'herbe, 1959)). А также такой режиссер, пришедший в кино еще во времена экспрессионизма, как Макс Офюлс – в чьих фильмах буквальное содержание, напротив, обычно не имело особого значения, но чей изобразительный стиль оказал заметное влияние на европейский кинематограф – который снял в 1959 во Франции свою лучшую картину Лола Монтес (Lola Montés). В Дании это Дрейер, снявший две религиозно-философские притчи – День гнева (Vredens dag, 1943) и Слово (Ordet, 1955). Также это Бунюэль, работавший в это время в Мексике, где поставил такие фильмы, как Забытые (Los olvidados, 1950) и Назарин (Nazarin, по Бенито Пересу Гальдосу, 1958) – в значительной степени в пику неореализму и религиозным кинопритчам 1950-х соответственно.
Притчевое построение фильма – то есть такое, при котором сюжетная сторона фильма оказывается лишь не имеющим важного самостоятельного значения способом раскрытия абстрактной философской проблематики – стало применяться и в картинах режиссеров, пришедших в кино после войны. Это, прежде всего, католические притчи Робера Брессона Дневник сельского священника (Le Journal d'un curé de campagne, по Жоржу Бернаносу, 1950) во Франции и Федерико Феллини Дорога (La strada, 1954) в Италии и протестантская притча Ингмара Бергмана Седьмая печать (Det sjunde inseglet, 1956) в Швеции. Отдельное место в этом жанре занимают короткометражные фильмы Альбера Ламориса Белая грива (Crin blanc, 1952) и Красный шар (Le Ballon rouge, 1956), в которых общие идеи любви или дружбы разрабатывались через, соответственно, отношения мальчика с лошадью и с воздушным шариком.
Таким образом, можно сделать вывод, что к середине 1950-х кинематограф настолько освоил имеющиеся в языке звукового киноповествования средства, что стал способен выражать глубокие отвлеченные идеи; то есть возможности киноязыка оказались уже сопоставимыми с возможностями языка вербального.
Наконец, важным достижением нового поколения кинематографистов стало освоение открытий, сделанных японцами. Прежде всего это касается психологически активного соединения повествовательного и изобразительного аспектов фильма, которое к концу 1950-х имело место в наиболее заметных фильмах практически во всех кинематографиях – например, это Хиросима, моя любовь (Hiroshima mon amour, 1959) Алена Рене во Франции, Летят журавли (1957) Михаила Калатозова в СССР, Пепел и алмаз (Popiól i diament, 1958) Анджея Вайды в Польше (послевоенному кинематографу СССР и Восточной Европы посвящены специальные разделы ниже) и другие. Дальше всех в этом отношении продвинулся Феллини, в чьей картине Сладкая жизнь (La dolce vita, 1959) повествовательный и изобразительный пласты настолько слились, что уже вообще не могут рассматриваться по отдельности (См. также ФЕЛЛИНИ, ФЕДЕРИКО.) – во многом именно поэтому Сладкая жизнь является переходной картиной к кинематографу 1960-х.
Последние открытия (1960–1966).
Италия в общеевропейском контексте: шестидесятые.
К началу 1960-х европейский кинематограф нашел способ объединения двух заданных японцами тенденций – субъективизации происходящего на экране и внимания к выразительности внешнего мира – с неореалистическим интересом к мелким бытовым подробностям. В целом этот способ можно охарактеризовать как выражение субъективных психологических состояний через выразительность материальной среды.
Важным шагом к открытию этого киноязыкового средства был фильм Брессона Приговоренный к смерти бежал (Un Condamné à mort s'est échappé, также иногда упоминается подзаголовок …или Дух веет, где хочет, …ou Le Vent souffle où il veut, по рассказу Андре Девиньи, 1956) – сверхлаконичная и идеально выверенная по своему стилю картина (как и все последующие фильмы режиссера), в которой сами сюжетные обстоятельства (подготовка побега из тюрьмы) делают мелкие детали психологически значимыми. В результате оказывается, что «сюжет фильма – это история взаимоотношений героя с ложкой (превращенной в стамеску), матрасом или веревкой», и «перед нами искусство, придающее исключительное значение внутреннему, но ограничивающее себя поверхностью вещей» (Божович В. Современные западные кинорежиссеры, М., 1972. С. 90, 93).
Но основные достижения на этом пути принадлежат Микеланджело Антониони, чья т.н. «трилогия отчуждения» (Приключение (L'avventura, 1960), Ночь (La notte, 1961), Затмение (L'eclisse, 1962)) даже заставила критиков говорить о «дедраматизации», т.е. об отмене традиционной драматургии. Действительно, в этих фильмах внешнее действие весьма незначительно, а то, что составляло бы основной вопрос сюжетной интриги в обычном повествовательном фильме, может остаться вообще без ответа (в Приключении). При этом особое значение во всех трех картинах приобретают те эпизоды, где с точки зрения развития действия не происходит абсолютно ничего. И именно такие моменты оказываются наиболее существенными для понимания происходящего в фильме, поскольку в них отображаются внутренние состояния персонажей и суть их взаимоотношений – через состояние окружающих персонажей вещей, через их формы, фактуры, освещение и (в следующем фильме Антониони Красная пустыня (Deserto rosso, 1964)) цвет.
В терминах противопоставления повествовательного и изобразительного аспектов фильма можно сказать, что если в немом кинематографе эти аспекты развивались достаточно независимо и в лучшем случае изображение было поставлено на службу повествованию, а затем в фильмах Уэллса, Мидзогути и Куросавы был найден способ их объединения, то у Антониони повествование, не лишаясь самостоятельного значения, оказывается подчиненным по отношению к изображению, становится поводом для воплощения определенных изобразительных смыслов. Это было не только одним из наиболее значительных открытий в послевоенном кинематографе, но и, пожалуй, единственным, потенциальные возможности которого обнаруживались и в следующем периоде развития кино (в 1970-е).
Помимо киноязыковых нововведений, «трилогия отчуждения» поставила также и важную проблему – потерю тесных межличностных связей, попросту переставших быть в современном обществе необходимыми (почти одновременно с Антониони на проблему некоммуникабельности обратил внимание Ингмар Бергман в фильме Молчание (Tystnaden, 1962), также снятом вне традиционных драматургических рамок, но в котором развитие отношений персонажей выражается не столько через предметную среду, сколько через музыкальную в своей основе структуру фильма). В этом плане трилогия, наравне с другими появившимися на рубеже 1950–1960-х картинами (Сладкой жизнью Феллини, На последнем дыхании Годара), продемонстрировала возможность кинематографа анализировать сложные интеллектуальные проблемы – причем анализировать их зачастую еще до того, как они стали изучаться в философской литературе.
В картинах Лукино Висконти, напротив, не было ни киноязыковых, ни философских нововведений, но его фильмы были тщательно разработанными в визуальном отношении художественными произведениями, чаще всего посвященными упадку сильного когда-то рода (сам Висконти был последним представителем династии, правившей в Милане в 1277–1447). Это может быть угасающий аристократический род (Леопард (Il gattopardo, по Дж. Томази ди Лампедуза, 1963), Туманные звезды Большой Медведицы (Vaghe stelle dell'Orsa, 1965)), буржуазный род в Германии 1930-х, разлагающийся в атмосфере фашизма, в фильме Гибель богов (La caduta degli dei, 1969), или даже крестьянский род с юга Италии, теряющий корни в большом городе в самом значительном фильме режиссера Рокко и его братья (Rocco e i suoi fratelli, по Дж. Тестори, 1960), имеющим прямые аллюзии на Братьев Карамазовых Достоевского.
Пьер Паоло Пазолини принадлежал к следующему за неореалистами поколению кинематографистов (он дебютировал только в 1961 (Аккатоне (Accattone, также Нищий))), но в каком-то смысле его можно назвать их прямым наследником – в силу его пристального интереса к социальным низам (правда, уже не к беднякам, а к люмпенам) и выраженно левых убеждений. В экранизации Евангелия от Матфея (Il vangelo secondo Matteo, 1964) Пазолини попытался свести воедино католическую и марксистскую идеологию. В последующих фильмах режиссера, начиная с притчи Птицы большие и малые (Uccellacci e uccellini, 1966) и далее (например, Царь Эдип (Edipo Re, 1967), Свинарник (Porcile, 1969) и др.), проявляется некоторое разочарование в идеологии как таковой, что отчасти сближает его с поздними работами некоторых режиссеров французской Новой волны.
Одновременно в Италии работают художники, добившиеся успеха во времена неореализма (некоторые из которых – как, например, Де Сика (Чочара (La cioiciara, 1961)) – продолжают снимать в неореалистической стилистике, выглядящей в 1960-е архаично), и постепенно формируется поколение режиссеров, которые станут лидерами в 1970-е: это прежде всего Бернардо Бертолуччи, Эрмано Ольми и братья Паоло и Витторио Тавиани. Но, несомненно, 1960-е проходят в Италии главным образом под знаком Феллини, чье наиболее важное открытие заслуживает отдельного обсуждения.
Мышление на экране.
На протяжении всей истории человечества единственной системой, в полной мере способной передавать процесс человеческого мышления, был вербальный язык. И в этом смысле обнаружение в киноязыке возможности показывать ход мысли стало важнейшим событием в истории кино.
Разумеется, кинематограф, как и любая другая созданная человеком система, так или иначе имплицитно передает содержание мышления, и это относится как к повествовательному (раскрывающему «мышление историями»), так и к изобразительному кино (фактически воплощающему «мышление образами»). Более очевидно это в случае показа на экране сновидений, по сути своей являющихся проявлениями бессознательного мышления – а сновидениями кино интересовалось уже с середины 1900-х, правда, выделяя их обычно специальными семиотическими маркерами (сначала разного рода виньетками или двойной экспозицией, затем наплывом или смягчающими изображение светофильтрами и пр.). Нечто подобное можно сказать и о воспоминании, являющимся уже вполне сознательным внутренним психическим процессом, сходным с мышлением и часто являющимся его основой: воспоминания приходят в кино в конце 1900-х – в начале 1910-х и достаточно быстро становятся одним из основных средств изложения фабулы фильма; при этом они также выделялись конвенциональными приемами (теми же виньетками и наплывами). Однако все это можно признать лишь частными проявлениями мышления, и для полноты реализации способности кинематографа к объективизации психической деятельности требовалось также умение воплощать на экране ход мысли как таковой.
По-видимому, первой сознательной попыткой осуществления этой программы был замысел Эйзенштейна (1930) экранизации Американской трагедии Теодора Драйзера, где в кульминационном эпизоде предполагалось показать все происходящее в сознании главного героя – обрывки воспоминаний, абстрактные образы, звучащие слова и фразы и т.д. Эйзенштейн назвал эту технику «внутренним монологом», но в современной терминологии ее правильнее именовать «потоком сознания» («внутренним монологом» сейчас называется неслышимый другими персонажами закадровый голос героя, излагающего свои мысли). Однако, в силу различных обстоятельств (как политико-экономических, так и, возможно, чисто художественных), эту идею Эйзенштейну реализовать не удалось – ни в Американской трагедии, которая не была поставлена, ни в последующих фильмах, – и, скорее всего, в 1930–1940-е годы она слишком опережала свое время.
В конце 1950-х, после того, как Уэллс, Куросава и Мидзогути (а также, впоследствии, и Антониони) продемонстрировали новые возможности кино в воплощении субъективных состояний и переживаний, кинематограф вновь заинтересовался проблемой показа на экране внутреннего мира человека. Принципиальное значение при этом имел отказ от применения семиотических маркеров при переходе на сновидение или воспоминание. Такая мелкая на современный взгляд деталь, как наличие или отсутствие наплыва и пр. при изменении модальности столь важна потому, что маркер знаменует собой некое сообщение авторов фильма (нечто вроде «сейчас вы увидите сновидение»), разъединяющее сновидение и «реальность», и рассматривающее их в соотношении с общим повествовательным пространством фильма, в то время, как отсутствие маркера превращает монтажный переход с «реальности» на иную модальность в элемент единого потока психической деятельности. (См. также АЛЛЮЗИЯ).
Значительным шагом в этом процессе отказа от конвенциональных приемов был фильм Бергмана Земляничная поляна (Smultronstallet, 1957), в которой, впрочем, переходы между тремя представленными в нем модальностями («реальностью», воспоминанием, сновидением) еще прочно связаны с повествованием, тщательно подготавливаются в диалоге и даже иногда поддерживаются закадровым голосом. В следующие пять лет разработка приемов воплощения процесса мышления и свободного перехода к ирреальным модальностям продолжалась во многих фильмах, среди которых стоит отметить, прежде всего картину В прошлом году в Мариенбаде (L'Année dernière à Marienbad, 1961) Рене, лишенную маркеров и построенную в виде реконструкции процесса воспоминания, который, однако, оказался в целом недоступным для понимания зрителем – видимо, вследствие того, что режиссер пытался восстановить этот процесс, скорее, по законам вербального языка, чем по собственно изобразительным законам (здесь может быть существенным то обстоятельство, что фильм делался в сотрудничестве с писателем Аленом Роб-Грийе). Также важно в этом отношении Иваново детство (1962) Андрея Тарковского, где сны и «реальность» различаются только характером изображения, фактическим содержанием и ничем более.
И наконец, в 1963 году Феллини снял 8 \up121/\dn52, в котором переходы между четырьмя модальными пластами («реальностью», воспоминанием, сновидением, и также желаемым или даже вообще воображаемым) обычно не были прямо обусловлены повествовательно (достаточно сказать, что фильм начинался непосредственно со сновидения), осуществлялись без маркеров, и каждый из них за редкими исключениями мог быть распознан только благодаря тому, что именно происходит в кадре, но не семиотически. Тем самым, в этом фильме (в котором ирреальным модальностям отводится весьма значительная часть экранного времени) сам по себе процесс протекания психической деятельности стал формообразующим элементом, и картина превратилась из истории происходящего с героем в историю происходящего в его мышлении.
Достижения 8 \up121/\dn52 были доведены до логического итога в картине Бергмана Персона (Persona, 1966), пролог которого строился просто как неотредактированная череда изображений, мелькающих во взбудораженном сознании – что сильно напоминает исходную идею Эйзенштейна, но идет дальше ее, поскольку в силу отсутствия на экране героя, которому мог бы принадлежать этот поток сознания, он оказывается как бы прямой визуальной «речью» автора. Так кинематограф научился передавать мысли уже не в косвенном наклонении, а в изъявительном.
И это оказалось последним на данный момент фундаментальным открытием в языке кинематографа. Дальнейшая история кино была преимущественно развитием его художественных средств, и лишь в небольшой степени – языковых.
Французская Новая волна.
Хотя основные фильмы Новой волны были сняты раньше, чем появились на экране 8 \up121/\dn52 и Персона, художественные устремления этого течения заставляют связать его с киноискусством более позднего времени.
В отличие от Италии, где послевоенная смена поколений кинематографистов произошла очень быстро – вследствие выраженно большего дарования режиссеров нового поколения, – во Франции, где талантливые режиссеры приходили на место не менее талантливых, этот процесс растянулся на полтора десятилетия: в течение 1950-х, как мы видели, в стране появилось только два художника (Брессон и Рене), способных конкурировать с остававшимися творчески активными классиками, и только на рубеже десятилетий в кино пришло поколение, известное под общим названием «Новая волна».
Этому способствовала, во-первых, политика французского правительства, которое ввело направленную на поддержку низкобюджетного авторского кино систему «аванс в счет сборов», благодаря которой в 1958–1962 дебютировали около сотни режиссеров. Во-вторых, большое значение имело появление высокочувствительной кинопленки и легкой и недорогой съемочной и звукозаписывающей аппаратуры, что позволило без дополнительных затрат снимать в естественных интерьерах (тем самым создавая и новые художественные возможности, и дополнительную экономию средств).
Наконец, последние обстоятельства, ставшие решающими, связаны с кинематографической культурной средой, которая формировалась вокруг нескольких центров: с одной стороны, это «группа тридцати» (Ламорис, Рене, снимавший в ее рамках документальные фильмы, и др.), основанная в 1953 для поддержки низкобюджетных короткометражных фильмов. И самое важное, с другой стороны, будущие кинорежиссеры группировались вокруг основанного крупнейшим теоретиком кино 1950-х Андре Базеном журнала Cahiers du cinéma (последовательно проводившего базирующуюся на авторской теории редакционную политику) и основанной историком кино Анри Ланглуа Французской синематеки: все важнейшие режиссеры Новой волны начинали свою деятельность в кино как критики в Cahiers… . В этом смысле можно сказать, что режиссеры Новой волны стали первым в истории кино поколением авторов, получивших систематическое кинообразование – и это обстоятельство весьма существенно для понимания характера течения.
Если неореализм был в целом един как в стилистическом, так и в идеологическом отношении, то Новая волна таковой не являлась: единственное общее, что можно найти у всех основных режиссеров направления – Франсуа Трюффо, Жана-Люка Годара, Клода Шаброля, Эрика Ромера, Жака Риветта и дебютировавшего на два года раньше остальных Луи Маля – это предпочтение современных сюжетов, разыгрываемых в реальных натурных объектах и интерьерах. Это, на первый взгляд, похоже на неореализм, но если неореалисты использовали естественные условия для создания у современного им зрителя иллюзии реальности, то режиссеры Новой волны, сохраняя в фильме все внешние признаки жизнеподобия, преследовали прямо противоположные цели: фильмотечное поколение стало использовать предкамерную реальность, чтобы снимать кино о своей любви к кино.
Первый нашумевший фильм течения – Четыреста ударов (Les Quatre cents coups, 1959) Трюффо, само название которого звучит на французский слух вызывающе вторично (примерно как «Огонь, вода и медные трубы»), а сюжетная коллизия прямо отсылает к фильму Ноль за поведение Виго – настолько насыщен прямыми и косвенными цитатами из разных фильмов (как классических, так и проходных), что он был охарактеризован критикой как «уважительное приношение B-фильмам» (голливудской продукции второго сорта). И в дальнейшем Трюффо не изменял такому подходу, часто снимал стилизации различных жанров, а в фильме Жюль и Джим (Jules et Jim, 1961) он создал стиль «ретро», цитатный уже просто по своей природе.
Жан-Люк Годар для подчеркивания условной кинематографической природы происходящего на экране пользуется совсем иными средствами. Уже со своего первого фильма, ставшего важнейшим фильмом Новой волны, и во многом опередившего свое время – с картины На последнем дыхании (Á bout de souffle, 1960), начинающейся кадром с Хемфри Богартом на афише и со стоящим рядом пародирующим Богарта главным героем, – он систематически нарушает все правила пространственно-временной непрерывности, используя рваный монтаж, произвольно меняющийся за персонажами фон, снимая дрожащей камерой и т.д. В Безумном Пьеро (Pierrot le fout, 1965) главный герой время от времени обращается с репликами к зрителю, в Уикенде (Weekend, 1967) персонажи прямо говорят, что они находятся в фильме; в этот же период в его фильмах появляются шокирующие зрителя предметы (искореженные автомобили, трупы), на которые герои не обращают ни малейшего внимания. Наконец, Годар с конца 1960-х (например, в том же Уикенде), в дополнение к прерывающим действие кадрам с не относящимися к сюжету рекламными коллажами начинает разрывать течение фильма титрами, отстраненно комментирующими происходящее, и использует кадры, длительность которых выраженно больше или меньше ожидаемой.
Однако большинство художников Новой волны (за исключением Маля – Зази в метро (Zazie dans le métro, 1960)), акцентируя искусственность кинофильма, предпочитают для этого не разрушать киноязык, как Годар, а, скорее, в духе Трюффо наполнять его цитатами и стилизациями, что приводило лишенных собственного авторского почерка второстепенных режиссеров к откровенной эклектичности: как охарактеризовал типичные работы такого рода один из критиков, «это цитатные фильмы, в которых сцена из Хичкока, подклеенная к сцене из Бунюэля, предшествует длинному эпизоду из Виго, снятому в росселлиниевском духе, но омоложенному приемами в манере Пэдди Чаевски».
Так или иначе, Новая волна в целом была своего рода антинеореализмом (все как бы настоящее, но одновременно и игра в кино – Годар; или же все настоящее, но одновременно и цитата – Трюффо и др.), была течением, впервые замкнувшим кинематограф на самого себя, и, тем самым, она оказалась предвестником основного направления в киноискусстве двух последних десятилетий 20 в. – постмодернизма.
Послевоенное кино в других странах.
Выше обсуждались только те кинематографии, в которых после войны делались важные открытия в области киноязыка, и которые в конечном счете определяли направление развития киноискусства. Но это не означает, что вне Западной Европы и Японии в 1950-е – в первой половине 1960-х не было значительных в художественном отношении фильмов.
Оттепель: СССР.
К началу 1950-х развитие тоталитарной системы и появление «теории бесконфликтности» в идеологии социалистического реализма привели к упадку киноискусства в СССР, а установка на производство небольшого числа фильмов, но художественно совершенных (в соцреалистическом понимании этого слова), – к почти полному прекращению кинопроизводства. И если после смерти Сталина в 1953 производство стало постепенно восстанавливаться, то для возрождения искусства потребовалась связанная с XX съездом КПСС 1956 «оттепель», в ходе которой советское кино достигло расцвета, отчасти сравнимого с периодом 1920-х.
Наиболее значительный фильм ранней оттепели – Летят журавли (по пьесе Виктора Розова Вечно живые, 1957), снятый начинавшим еще в немом кино режиссером Михаилом Калатозовым и оператором Сергеем Урусевским. В этом фильме трагедия уничтоженной войной любви раскрывалась с помощью психологически гиперактивного изображения: четкого, иногда графичного его рисунка, нервного контрастного освещения в павильонных сценах, использования искажающей перспективу сверхширокоугольной оптики в сочетании с камерой, крайне подвижной как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении (применялись и съемки с рук – за несколько лет до того, как их ввели в широкий обиход режиссеры Новой волны). Эти приемы в наиболее драматичных сценах новым и сильным способом передавали впечатления и чувства умирающего или находящегося на грани самоубийства персонажа. В следующих своих работах Калатозов и Урусевский развивали эту технику (делая камеру еще более подвижной, а оптику – еще более широкоугольной, или используя переворачивающую привычные тональные соотношения инфрачувствительную кинопленку), добившись наиболее любопытных результатов в фильме Я – Куба (1964).
Несмотря на заметное смягчение режима, советские кинематографисты были практически лишены возможности прямо говорить об актуальных проблемах, и осторожная попытка затронуть их во вполне лояльном фильме Застава Ильича (1962) Марлена Хуциева привела к серьезной критике картины властями и выходу ее в 1964 в переделанном виде под названием Мне 20 лет. Поэтому для искреннего высказывания о серьезных вопросах приходилось обращаться к политически нейтральным темам, среди которых одной из наиболее подходящих была военная тематика – сама по себе достаточно экзистенциальная и важная для национального самосознания. При этом большинство работавших с военной темой режиссеров (за исключением Григория Чухрая) принадлежали не к воевавшему поколению, а к более молодому поколению «шестидесятников», пережившего войну в детстве, что вызвало нетипичный для военных фильмов перенос акцентов с героев на обычных людей, вынужденно оказавшихся на фронте, или даже на мирных жителей, что, в свою очередь, сделало советские фильмы 1960–1970-х о войне гораздо более глубокими и человечными, чем это обыкновенно свойственно батальному жанру в кино.
Впервые это произошло в Ивановом детстве (1962) Тарковского, главный герой которого (в отличие от первоисточника – рассказа Иван воевавшего Владимира Богомолова, – где главным героем является кадровый офицер) – маленький мальчик, не смирившийся с гибелью своей семьи. Аналогичным образом смещены привычные акценты и во многих картинах 1970-х: Проверка на дорогах (1971, прокат 1986) Алексея Германа, Восхождение (по повести Василя Быкова Сотников, 1977) Ларисы Шепитько и др. С некоторыми оговорками то же относится и к фильмам о Гражданской войне 1918–1920: В огне брода нет (1968) Глеба Панфилова и Комиссар (1967, прокат 1987) Александра Аскольдова. Сходная экзистенциальная тематика всех этих картин (обычный человек в обстоятельствах, которые выше его сил, находящийся на грани смерти или предательства) привела и к некоторому сходству в стилистике, в целом заданной фильмом Летят журавли: контрастное черно-белое изображение, динамичная камера, внимание к психологически важным деталям, акцентируемым резким, иногда шоковым монтажом и пр.
Однако основным направлением советского кинематографа начала 1960-х было наследующее неореализму и отчасти антониониевским принципам дедраматизации, но главным образом фильмам Ламориса т.н. «поэтическое кино», ищущее поэзию и радость жизни в простых бытовых вещах, которые часто становятся более важными, чем собственно сюжет картины: это, прежде всего, Застава Ильича и фильмы Михаила Калика (при этом и в типичных советских картинах этого периода присутствовали элементы визуальной метафорики). Пожалуй, к самому интересному результату такой подход – свойственный многим кинематографиям периода, но достигший наиболее полного развития в СССР – привел уже на закате поэтического кино в короткометражной ленте Рустама Хамдамова Импровизация на тему рассказа Сарояна «В горах мое сердце» (В горах мое сердце, 1967), где особое внимание к деталям в сочетании с ретро-стилистикой привело к такой импрессионистской насыщенности изображения, что оно оказалось способным составлять единое целое с произведениями живописи, которые совершенно органично вплетаются в «обычное» изображение в кульминационном эпизоде картины.
В определенном смысле противоположную ветвь поэтического кино представляла Кира Муратова, сосредоточившаяся не столько на метафорически воплощающих человеческую психологию бытовых деталях, сколько на тонкости самих по себе человеческих отношений (Короткие встречи (1967), Долгие проводы (1971, прокат 1987)).
С самим названием направления, скорее всего, связана склонность режиссеров периода посвящать фильмы творческо-психологическим биографиям поэтов или художников: это, например, Мольба (по произведениям грузинского поэта 19 в. Важи Пшавелы, 1968) Тенгиза Абуладзе и особенно Цвет граната (Саят-Нова – по имени армянского поэта 18 в., 1969, фильм сохранился не в авторском варианте) Сергея Параджанова и Андрей Рублев (Страсти по Андрею, 1966, прокат 1969, 1971) Андрея Тарковского. Последний из названных фильмов в каком-то смысле можно считать итогом развития кинематографа 1950-х: изображение, в зависимости от характера эпизода могущее быть как предельно жестким, так и предельно нежным, длинные планы, снятые медитативно перемещающейся камерой, внимательной как к фактурам предметов, так и к разнообразным широким пейзажам, замедляющие время рапидные съемки (до этого фильма в послевоенном кино почти не применявшиеся), подчеркивающие как гармонию, так и жестокость этого мира – все вместе превращали тематику картины из «судьбы художника в России» в «быть или не быть».
Тарковский и Параджанов, несомненно, крупнейшие отечественные режиссеры второй половины 20 в. Но если самые важные с точки зрения развития мирового кино фильмы первого из них были сняты в 1970-е (и поэтому о них ниже), то второй создал две свои наиболее значительные картины в 1960-е. Параджанов является одним из самых оригинальных художников даже в тематическом плане: его фильмы представляют собой своего рода визуальные портреты различных культур – гуцульской (Тени забытых предков, (Тiнi забутих предкiв, по Михаилу Коцюбинскому, 1965)), армянской (Цвет граната), грузинской (Легенда о Сурамской крепости, 1984) и азербайджанской (Ашик-Кериб, по Михаилу Лермонтову, 1988).
Некоторые сцены Теней забытых предков – особенно не сюжетно-важные – сняты настолько подвижной камерой, что в результате в них взаимоотношения объектов теряют свое значение по сравнению с динамическим взаимодействием цветов. В Цвете граната он создал свою оригинальную стилистику (которой и следовал в остальных двух фильмах) прямо противоположного рода, типичный кадр в которой имеет примерно такой вид: фронтальная выверенная композиция, абсолютно неподвижная камера, минимум движения и в самом кадре (причем имеющееся движение уравновешено композиционно), и основное значение приобретают цветовые, фактурные и культурно-обусловленные взаимоотношения заполняющих кадр объектов. В целом это напоминает последовательность коллажей (Параджанов был также и художником-коллажистом), но развернутых во времени и способных двигаться.
Наконец, в 1960-е в советском кино появляется и такой режиссер, как Артавазд (Артур) Пелешян, прямо продолжающий традиции немого авангарда 1920-х (в том числе, и в буквальном смысле: в его фильмах совершенно отсутствует звучащая речь, а в одном из них даже применены титры). В его неигровых фильмах (Начало (1967), Мы (1969), Обитатели (1970), Времена года (1975) Наш век (1982)), созданных практически исключительно из чужого материала, основное внимание уделено выдержанным в жестком ритме монтажным сопоставлениям, выявляющим глубинную связь монтируемых элементов; при этом результирующий – и, как правило, обобщающий – смысл возникает не столько из двух смонтированных между собой кадров, сколько в результате соположения нескольких подряд идущих кусков и «дистанционного» взаимодействия сходных или даже идентичных разнесенных по времени кадров.
Оттепель: Восточная Европа.
Оттепель в СССР привела к заметной либерализации социалистических режимов восточноевропейских стран, что позволило развиться ярким оригинальным кинематографиям в Польше, Чехословакии, Венгрии и, в меньшей степени, в Югославии.
Наиболее значительный фильм крупнейшего польского режиссера Анджея Вайды Пепел и алмаз (Popiol i diament, 1958), снятый в экспрессивной манере, сравнимой с стилистикой фильма Летят журавли (в нем менее активна камера, но изображение в целом, монтаж и звук более метафоричны), имеет с ним и некоторые тематические параллели: действие связано с войной, которая разрушает зарождающуюся любовь. Однако характер тематического конфликта совершенно иной (главного героя убивают не внешние враги, а соотечественники, с которыми он оказался по разные стороны баррикад), что связано с особенностями истории Польши последних нескольких столетий, когда переходящая от одной империи к другой страна оказывалась раздираемой внутренними конфликтами едва ли не больше, чем внешними. В этом смысле фильм Вайды в наиболее концентрированном виде выразил самые болезненные темы послевоенного польского искусства.
На рубеже 1950–1960-х сняли свои наиболее интересные фильмы и другие классики польского кинематографа – Анджей Мунк (Героика (Eroica, 1957)) и Ежи Кавалерович (Мать Иоанна от ангелов (Matka Joanna od aniolow, 1961)). При этом польская кинематография оказалась единственной в Восточной Европе, где новые имена появлялись более или менее непрерывно и далее, в том числе и после окончания оттепели: Роман Полански в начале 1960-х (снявший, впрочем, свои основные фильмы в конце десятилетия в Великобритании и США), Кшиштоф Занусси в начале 1970-х, Кшиштоф Кеслевски в конце 1970-х – в 1980-е.
В отличие от равномерно развивавшегося польского, чехословацкое кино достигло своего краткого расцвета во время «пражской весны» 1960-х, когда чешские и словацкие режиссеры оказались единственными в социалистическом лагере, кто мог себе позволить более или менее прямо говорить об актуальных проблемах. Тогда дебютировали Иржи Менцель, аниматор-сюрреалист Ян Шванкмайер, Вера Хитилова, снявшая авангардную ироничную фантазию о современном обществе Маргаритки (Sedmikrasky, 1966), и, наконец, Милош Форман, чьи лучшие картины поставлены в США в 1970-е, а из его чешских фильмов наибольший интерес в настоящее время представляет, пожалуй, Бал пожарных (The Firemen's Ball, также Горит, моя барышня!, Hori, ma panenko!, 1967) – притча о разваливающемся обществе переходного периода.
Наконец, в Венгрии, история которой в первой половине 20 в. была одной из самых драматичных в Европе, после подавления восстания 1956 года авторская свобода оказалась меньшей, чем в Польше и, конечно, чем в Чехословакии. Вероятно, сочетание этих факторов отчасти способствовало тому, что крупнейший венгерский режиссер Миклош Янчо, исследуя проблемы истории и власти и той роли, которую играет в них насилие, создал в фильмах Без надежды (Szegenylegenyek, 1965), Красное и белое (Csillagosok, katonak, В СССР: Звезды и солдаты, Венгрия–СССР, 1967) и Тишина и крик (Csend es kialtas, 1968) одну из самых аллегорических стилистик во всем мировом кинематографе.
В этих картинах медленно двигающаяся камера обозревает широкие пустые пространства, в которых негде укрыться от пули, люди не вступают в непосредственный контакт друг с другом, и только иногда отдают приказы, обнаженное тело не эротично, а беззащитно. В целом авторский стиль режиссера можно охарактеризовать как хореографический: в его фильмах представления о насилии и власти (и – опосредованно – о ходе истории) передаются главным образом через движение людей друг относительно друга, через управление одними людьми движениями других, через движение камеры относительно людей и окружающей их обстановки и через пластические особенности всех этих движений; с 1970-х Янчо начинает использовать уже собственно танец как один из основных элементов предкамерной реальности. Естественно, что такое внимание режиссера к непрерывному внутрикадровому движению делает его кинематограф преимущественно безмонтажным – в разработке изобразительных возможностей длинного плана Янчо стоит рядом с Мидзогути, Антониони и Тарковским (в фильме Тишина и крик средняя длительность плана приближается к трем минутам, а в фильме Любовь моя, Электра (Szerelmem, Elektra, 1975) – к шести).
Такая отвлеченная художественная манера позволила Янчо сравнительно свободно работать и в 1970-е, когда оттепель в СССР и Восточной Европе закончилась: после ввода танков стран Варшавского договора в Прагу в 1968 была уничтожена художественная свобода в кино Чехословакии, и существенно ограничена в остальных восточноевропейских кинематографиях. В СССР уже с 1966 возобновляется практика 1930–1940-х запрета некоторых уже готовых произведений (т.н. «полочные фильмы»: упоминавшиеся Комиссар, Проверка на дорогах, пародийно-авангардистская Интервенция (1968, прокат 1987) Геннадия Полоки и др.), а в Восточной Европе, где «железный занавес» был не столь прочен, ведущие режиссеры все чаще предпочитают ставить фильмы в Европе западной; некоторые из них (Форман, Полански) эмигрируют в США.
Послевоенное кино в Великобритании и США.
Новые кинематографические волны, прокатившиеся по континентальной Европе, затронули также и Соединенное Королевство. Но если на континенте (в Италии, Франции, СССР и Восточной Европе) новые волны имели социально-эстетический характер (и именно эстетическая составляющая делает их особенно интересной с точки зрения истории кино), то в Великобритании, которая после начала 1900-х не находилась среди лидеров киноискусства – за исключением документального, – новое кино было чисто социальным. Вполне возможно, что успехи британского кинематографа 1930–1940-х в области документалистики (прежде всего, в работах Джона Грирсона – основателя английской документальной школы – и Хемфри Дженнигса) дополнительно способствовали тяготению игрового кино 1950–1960-х к социально-бытовой заземленности.
Новое поколение британских кинематографистов получило собирательное название «рассерженные молодые люди» (их направление также называется «социальный реализм» и – на раннем этапе – «свободное кино»). Это прежде всего Джек Клейтон (Место наверху (Room at the Top, также Путь в высшее общество, 1959)), Карел Рейс (В субботу вечером, в воскресенье утром (Saturday Night and Sunday Morning, 1960)), Тони Ричардсон (Оглянись во гневе (Look Back in Anger, по пьесе Джона Осборна, 1959), Одиночество бегуна на длинную дистанцию (The Loneliness of the Long Distance Runner, по Алану Силлитоу, 1962)), Линдсей Андерсон (Эта спортивная жизнь (This Sporting Life, также Такова спортивная жизнь, по Д. Стори, 1963), и Если… (If…, 1968)) и отчасти Джон Шлезингер (Билли-лжец (Billy Liar, 1963)). В их фильмах чаще всего показывающих в депрессивной визуальной атмосфере жизнь социальных низов, характерна резкая критика всех социальных структур современного общества как таковых, поданная в несколько отстраненно-ироничной манере, причем общий вектор развития течения можно описать как направленный от жесткой критики ко все большему тотальному ироническому нигилизму. Одновременно в Великобритании работают и режиссеры, придерживающиеся более привычных установок – например, это Дэвид Лин (Короткая встреча (Brief Encounter, 1945), Мост через реку Квай (The Bridge on the River Kwai, 1957)), Джозеф Лоузи и др.
В то же время, в британском кинематографе появляются и фильмы, в которых развивались достижения послевоенного континентального кино (особенно французской Новой волны) – это жизнерадостные абсурдистские картины с участием культурных лидеров Великобритании 1960-х «Битлз»: Вечер трудного дня (A Hard Day's Night, 1964) и Help! (1965) режиссера Ричарда Лестера и анимационная Желтая подводная лодка (Yellow Submarine, 1968) режиссера Джорджа Даннинга. Эти работы, в которых (в отличие от классического мюзикла) изображение не пыталось ни подчинить себе музыкальный ряд, навязав ему повествовательные опоры, ни слепо иллюстрировать его, а напротив, стремилось найти визуально-пластический эквивалент сути музыки и слов, стали образцом сочетания изобразительного ряда и современной музыки, во многом определив направление дальнейшего развития музыкального фильма (например, совершенно иной по настроению английской же Стены («Пинк Флойд» – Стена, Pink Floyd – The Wall, 1982) Алана Паркера) и в перспективе – видеоклипа.
Наконец, британское кино всегда обладало отделявшим ее от остальных европейских кинематографий свойством – постоянным контактом с кинематографом США. Никогда не прерывавшиеся полностью связи между бывшей колонией и бывшей метрополией, социокультурная общность и, прежде всего, общность языка привели к тому, что примерно к середине 1960-х две кинематографии практически слились в едином культурно-экономическом пространстве. Многие американцы постоянно (Лоузи, поздний Чаплин – урожденный англичанин) или эпизодически (Лестер, Стэнли Кубрик) работают в Соединенном Королевстве, а британцы – в Соединенных Штатах (Ричардсон, Шлезингер, Паркер).
Также в Великобритании в 1920-е начинал свою карьеру в кинематографе один из крупнейших американских режиссеров Альфред Хичкок, снявший после войны в США такие непревзойденные образцы саспенса, как Веревка (Rope, 1946), Головокружение (Vertigo, 1958), Психо (Psycho, 1960) и Птицы (The Birds, 1963). Во всех четырех фильмах были оригинально использованы различные эстетические и технические приемы: буквально выворачивающий пространство одновременный отъезд трансфокатора и наезд камеры (в Головокружении); сверхдлинные планы (в Веревке); или же, напротив, сверхкороткий монтаж крупных и сверхкрупных планов (в Психо и Птицах). Каждый из этих приемов передавал определенное психическое состояние, соответственно: ощущение головокружения; ощущение беспокойства, связанного с ожиданием в реальном времени; шоковое состояние жертвы неспровоцированного насилия (в этом смысле самые впечатляющие сцены Психо и Птиц сближаются с разгоном демонстрации в Броненосце «Потемкине» Эйзенштейна не только по характеру монтажа, но и по тематике). И все они, тем самым, раскрывали основную тему режиссера: беззащитность человека перед внешними силами и бессилие разума перед природой и собственным человеческим телом, что в теологической парадигме можно сформулировать как торжество материи над духом.
В целом же, американское кино 1950-х находилось под воздействием двух противоположных тенденций: с одной стороны, окончательное преодоление последствий великой депрессии способствовало ослаблению финансового давления на кинематографию, а с другой – возникшая конкуренция со стороны телевидения провоцировала кинематографистов форсировать применение тех экранных средств, которые отсутствуют на телевидении, что в результате увеличивало стоимость кинопроизводства. А поскольку в США кино обладало меньшим, чем в Европе, самостоятельным художественным статусом, то борьба с телевидением за зрителя стала во второй половине 20 в. одной из основных движущих сил кинематографа. И если в конце 1960-х – в 1970-е основной упор в этой борьбе стал делаться не столько на зрелищные, сколько на психологические возможности пленочного кино, то в 1950-е кино пошло по пути усиления чистой зрелищности. Были разработаны несколько систем широкоэкранного кино, систематически стал применяться цвет, и наиболее значительные голливудские фильмы конца 1950-х – это высокобюджетные цветные широкоэкранные трехчасовые суперколоссы на исторические темы вроде Бена Гура (Ben Hur, 1959) Уильяма Уайлера, в котором, впрочем, масштабно показанные события древнеримской истории рассматриваются как фон для зарождения среди ветхозаветной религии мести религии любви (христианства).
Одновременно, по мере укрепления экономической стабильности, происходит смягчение жесткой студийной системы, контролируемой крупным капиталом: возникает большое количество независимых студий, учреждаемых продюсерами (Роджер Корман), режиссерами (Стенли Крамер, начинавший как продюсер) и даже актерами (Берт Ланкастер). Именно такого рода кинокомпаниям – небогатым, но динамичным и готовым субсидировать венчурные кинопроекты – обязаны своим существованием практически все художественно интересные фильмы Америки последних десятилетий 20 в.
Если независимое производство было по крайней мере профессиональным, то к началу 1960-х стали появляться значительные фильмы, сделанные в полулюбительских условиях. Наиболее яркий пример здесь – снятые Джоном Кассаветесом за личные деньги Тени (Shadows, 1960), обратившие на себя внимание нервной натуралистической манерой съемки и актерской игры (Кассаветес, сам закончивший хорошую актерскую школу, тем не менее, применял на съемках импровизационный метод). Одновременно достигает своего высшего развития американский киноавангард, наиболее интересные фильмы которого созданы в конце 1950-х – в 1960-х Стеном Брекеджем, Йонасом Мекасом, Майклом Сноу, но прежде всего – основателем поп-арта художником Энди Уорхолом, приход которого в кино был единственным после Фернана Леже случаем, когда художник такого масштаба занимался кинорежиссурой.
Уорхол снял в 1960-е около пятидесяти экспериментальных фильмов, шокировавших кинематографическую общественность не столько своей тематикой (как, например, в фильме Минет (Blow Job, 1963)), сколько радикальным отношением к пространству, времени и действию на экране: в двух самых известных его лентах – Сон (Dream, 1963) и Небоскреб Эмпайр (Эмпайр, Empire, 1964) – в течение, соответственно, шести и восьми часов демонстрируется практически неизменное изображение (спящий человек изредка переворачивается; за верхушкой Эмпайр-Стейт-Билдинга проплывают облака), к тому же еще и немое.
Таким образом, эти фильмы, которые некоторые исследователи рассматривают как знаменующие смерть кинематографа, вводят в кино принцип современного искусства (contemporary art) «то, что заключено в рамку, и есть искусство». И одновременно в них, с одной стороны, полностью дискредитируется идея, что кино интересно своей способностью воспроизводить реальность, а с другой – подчеркивается самодостаточная значимость процессов, запечатлеваемых на кинопленке.
Современное кино.
Если кинематограф первой половины 1960-х интенсивно развивался как чисто внутренне, в плане поисков новых языковых (коммуникационных) и эстетических средств, так и под давлением внешней общекультурной среды (социальных движений в Западной Европе и оттепели в Восточной), то в конце десятилетия ситуация радикально изменилась. Процесс обнаружения ранее неизвестных языковых возможностей остановился (нельзя исключать, что обнаружены все языковые возможности), а в художественном аспекте кино начало создавать поводы для разговоров о его смерти. Например, некоторые исследователи полагают, что такие картины, как Персона (которая «оживает» с зажигающейся лампой кинопроектора в первом кадре фильма и «умирает» вместе с гаснущей лампой в последнем, а в середине фильма как бы рвется пленка) и Небоскреб Эмпайр являются развернутыми метафорами смерти кинематографа. Одновременно в 1968 кончились и надежды (безотносительно к степени их обоснованности) на социальные преобразования – в мае после студенческих волнений в Париже и в августе после подавления «пражской весны».
В результате кинематограф оказался в своего рода социально-эстетическом тупике (из которого он в лишь в незначительной степени стал выходить только в начале 1990-х, когда стало ощущаться прямое влияние телевидения на киноэстетику и одновременно перешли на качественно новый уровень процессы глобализации), и в фильмах конца 1960-х – начала 1970-х, главным образом, осваивались киноязыковые нововведения предыдущего периода – например, открытый Феллини «поток сознания» уже примерно к 1966 стал общим местом.
С другой стороны, развитие технических средств непосредственно влияющих на киноэстетику и экономическое благополучие в Европе и Северной Америке, способствующее как разработке, так и активному применению таких средств, стало фактором, которое заметно отразилось на киностилистике – на той форме, которую приобрел обычный фильм к настоящему времени.
Развитие киноэстетики в конце 1960-х.
История цвета.
Кинематограф почти с момента своего рождения пытался добавить цвет к арсеналу своих средств. Еще Мельес вручную раскрашивал свои фильмы (а самый известный пример ручной раскраски позитивной копии – красный флаг в кульминационной сцене Броненосца «Потемкина» Эйзенштейна), с конца же 1900-х и до середины 1920-х повсеместной была практика вирирования (химический процесс, при котором в фильмокопии черное и оттенки серого превращаются в оттенки какого-либо цвета) или тонирования (равномерная окраска копии в какой-либо цвет, в результате чего белое и светло-серое превращаются в оттенки этого цвета) различных сцен в разные цвета в зависимости от их характера. При этом ночные сцены всегда окрашивались в синий, интерьеры, освещаемые электрическим светом или свечами – часто в сепию, утренние часы иногда кодировались светло-розовым, сцены с огнем – красным, наконец для страшных или фантастических сцен изредка использовался зеленый цвет (в разное время в разных странах семиотика цвета в некоторых пределах изменялась). Кроме того, процессы вирирования и тонирования иногда совмещались в одной сцене, и тогда она оказывалась двухцветной (хотя и в ненатуральных цветах): темные тона были одного цвета, а светлые – другого.
Но если говорить о полноценном цветном кинопроцессе, то эксперименты с ним, начавшиеся еще в 1900-х, упирались в две взаимодополнительные проблемы. Дело в том, что все известные цветные фото-кино- и видеопроцессы основаны на разделении падающего на светочувствительный материал света на три (минимум два) основных цвета – как правило, это, в соответствии с чувствительностью цветовых рецепторов человеческого глаза (колбочек), красный, зеленый и синий, – и в той или иной степени раздельной записи трех получившихся изображений с последующим их совмещением на экране. Соответственно, основными технологическими трудностями цветного кино являются сначала, при съемке, деление всего изображения на несколько соответствующих разным цветам частичных изображений и их независимая запись, а затем, при проекции, объединение частичных (цветоделенных) изображений.
Очевидным решением здесь будет чисто механическое – т.е. одновременная проекция через цветные фильтры на экран трех различных пленок, полученных в одной камере с помощью цветоделительной призмы (как это практиковалось в диапозитивах еще в середине 19 в.). Однако такая система, во-первых, потребовала бы дорогой специальной проекционной аппаратуры, а во-вторых, в ней затруднительно обеспечить приемлемое качество совмещения трех движущихся изображений. Другой сравнительно простой способ состоит в том, чтобы, покадрово чередуя проекционные светофильтры, показывать на экране кадры, последовательно снятые через соответствующие фильтры на одной пленке – именно такой была первая система цветного кино, запатентованная в 1906 Джорджем Альбертом Смитом. Но такая система, хоть она и дешевле, создает неудовлетворительные условия для восприятия, и в ней принципиально невозможно достигнуть качественного цветовоспроизведения движущихся объектов.
К тому же обе системы требуют очень осторожного обращения с позитивной копией – повреждение пленки в них приводит к рассогласованию цвета на экране. В силу всех этих причин обе системы, несмотря на свою простоту в цветовом отношении (они используют обычную черно-белую пленку – как негативную, так и позитивную, – и, по сути дела, цвет в них вводится только уже во время проекции и с помощью светофильтра, а не особого устройства пленки), оказались в целом неприменимыми для массового использования. В итоге цветное кино вынуждено было прийти к технологически самому сложному методу – совмещению в одной позитивной копии всех частичных цветных изображений.
Простейшим решением при этом методе является непосредственное склеивание разноцветных позитивных пленок эмульсией к эмульсии (иначе пропадет резкость), но в этом случае число частичных изображений не может превышать двух, что дает весьма посредственное качество цветопередачи. Тем не менее, большинство экспериментов конца 1910-х – начала 1920-х были основаны именно на таком двухцветном методе, с помощью которого начиная с 1922 были сняты несколько полнометражных игровых фильмов. Наконец, в 1933 стала применяться полноценная трехцветная система «Текниколор», в которой уже три частичных цветных изображения наносились на позитивную пленку практически типографским методом, и эта система просуществовала два десятилетия, пока не была полностью вытеснена трехслойной позитивной пленкой, которая достигла приемлемого качества только к середине 1950-х.
Что же касается цветоделения при съемке, то поскольку съемочный процесс является разовой тратой, не требующей переоборудования кинотеатров, здесь можно было позволить себе использование трех пленок и цветоделительной призмы – и именно таким способом были сняты почти все основные цветные фильмы 1930-х; негативные трехслойные кинопленки стали доступны лишь в 1940-е. Однако как в трехпленочной, так и в трехслойной однопленочной системах качество цветоделения при съемке оставалось сравнительно невысоким несколько десятилетий.
Естественно, что качество цветоделения и цветопередачи если и не определяло целиком выразительные возможности цветного кино, то, по крайней мере, задавало их верхний предел. И поскольку двухцветный метод вообще не создавал практически никаких художественных средств, то осмысление эстетических возможностей цвета в кино началось только с появлением трехцветной системы в середине 1930-х. Но т.к. и в трехцветной системе качество цветоделения первое время было невысоким (фактически, более или менее приемлемо передавались лишь некоторые цвета, полутона менялись до неузнаваемости, а оттенки терялись), то в 1930–1940-е художественно убедительный результат мог быть достигнут только в случае искусственного ограничения используемых цветов, что было оправданно только в некоторых случаях.
Во-первых, это, конечно, полное формирование изображения художником (при этом цвета, естественно, используются только те, которые удовлетворительно воспроизводятся) – т.е. классическая анимация или даже, в предельном случае, анимация, нарисованная непосредственно на кинопленке (по сути, это техника Эмиля Рено), как в фильмах англо-канадского режиссера Нормана МакЛарена. И действительно, среди фильмов 1930-х наиболее интересны и законченны в цветовом аспекте анимационные фильмы – например, картины Уолта Диснея и, особенно, цветные абстрактные ленты Оскара Фишингера (например, Оптическая поэма (An Optical Poem, 1937), являющаяся иллюстрацией одной из Венгерских рапсодий Ференца Листа). Дисней и Фишингер объединили свои усилия в фильме Диснея Фантазия (Fantasia, 1940), иллюстрировавшего различные музыкальные произведения, в котором Фишингер сделал эпизод Токкаты ре-минор Иоганна Себастьяна Баха (однако Дисней настолько изменил работу Фишингера, что тот снял свою фамилию с титров).
Во-вторых, это использование в игровом фильме подобранных с учетом характера цветопередачи декораций, что оказалось возможным только в очень условном фильме. Например, Александр Медведкин пытался применить цвет в сцене мечты в картине Счастье (декорации в которой, к тому же, имитировали обратную перспективу, т.е. в целом изображение планировалось сделать условным в стиле иконы), достаточно условной уже самой по себе, однако на единственно доступной на тот момент в СССР двухцветной системе цветного кино это оказалось художественно неприемлемо. В трехцветной системе условные декорации были применены в фильме Волшебник из страны Оз (Wizard of Oz, 1939) Виктора Флеминга, в котором все эпизоды в стране Оз были выполнены в цвете.
Близко к этому методу лежит использование специально подобранного цвета в обладающих особой эмоциональной значимостью (т.е. более условных по сравнению с остальной частью фильма) эпизодах – как, например в картине Унесенные ветром, которая снята в цвете целиком, но основной эстетический интерес с цветовой точки зрения в ней представляют сцены закатов, где героиня выглядит темным силуэтом на фоне неба, цвет которого меняется в зависимости от ее настроения. Во второй серии Ивана Грозного Эйзенштейна эпизод «Пир опричников» – начало кульминации картины – решен в красном, золотом, голубом и черном цветах, движение и взаимодействие которых было аллегорически связано с идеями власти, борьбы и смерти.
Наконец, определенный интерес в цветовом отношении представляют некоторые фильмы самого условного жанра кино – мюзиклы, которые в 1950-х снимались в США в основном на цветной пленке. В наиболее удачных из них помимо раскрашенных с учетом возможностей пленки декораций использовалось также цветное и разноцветное освещение (что, очевидно, связано со сценическим происхождением жанра) и даже искусственная модификация цветов уже снятых объектов и людей (система «Текниколор» позволяла независимо работать с каждым из трех частичных изображений).
Но в целом до середины 1960-х художественно осмысленное применение цвета было сравнительно редким (хотя цветная пленка использовалась все чаще), и в наиболее интересных случаях оно выполнялось по описанному принципу (как, например, в первом цветном фильме Кэндзи Мидзогути Екихи (Yokihi, также Ян Гуйфей, Yang kwei fei, 1955), где нескрываемая условность декораций была оправдана огромным историческим интервалом и полумифическим сюжетом).
Утверждение цвета.
В самом конце 1950-х качество цветопередачи в новых негативных кинопленках достигло вполне приемлемого уровня (в целом сопоставимого с нынешними пленками в этом отношении, хотя другие характеристики цветных киноматериалов с тех пор улучшились значительно), однако ведущие кинематографисты, по-видимому, увлеченные разработкой новых киноязыковых средств и не связанных с цветом новых художественных возможностей, несколько лет не обращали на них внимания. И только после того, как процесс открытия новых приемов с помощью черно-белой пленки замедлился, они стали активно обращаться к цвету.
В середине 1960-х большинство крупнейших режиссеров снимают свой первый полнометражный цветной фильм, как правило, наслаждаясь возможностью широкого использования всей цветовой гаммы (как, например, Феллини – в картине Джульетта и духи (Giulietta degli spiriti, 1965)). Однако наиболее значительным среди таких цветных дебютов является фильм Антониони Красная пустыня, в котором цветовая палитра хотя и достаточно разнообразна, но, за исключением резко контрастирующего эпизода фантазии героини, выстроена вокруг четырех опорных цветов: красного и его оттенков, белого, черного и (в меньшей степени) желтого; все остальные используемые цвета рассматриваются только в соотношении с этими четырьмя.
При этом из названных четырех цветов три весьма активны психологически, и это обстоятельство в сочетании с драматургической конструкцией фильма привело к тому, что соотношения цветов окружающего мира и изменения этих соотношений стали выражать психологические состояния героини и их изменения; при этом в отдельных наиболее эмоциональных ситуациях сами цвета этого мира модифицировались (для чего объекты на съемочной площадки просто перекрашивались в нехарактерные для них цвета). Кроме того, использование в некоторых сценах размывающей близко или очень далеко расположенные объекты длиннофокусной оптики позволило Антониони формировать внутри кадра элементы как бы беспредметного цвета – нерезкие бесфактурные цветовые поверхности, лишенные определенной предметной отнесенности.
Многие из этих нововведений оказали несомненное влияние на характер отношения к цвету режиссеров психологического направления (например, наиболее интересный в цветовом отношении фильм Бергмана Шепоты и крики (Viskningar och rop, 1972) целиком выдержан в жесткой черно-бело-красной гамме), а идеи, связанные с превращением реальных окрашенных поверхностей в абстрактную цветоформу, развиваются до сих пор (можно заметить, что в черно-белом кино такой подход к изображению существует со времен французского Авангарда).
Но в контексте цветного кинематографа того времени, возможно, особенно интересным в Красной пустыне было освещение. Если в черно-белом кино уже с середины 1910-х активно использовалось как тональное (равномерное), так и контрастное освещение (с помощью последнего можно значительно менять соотношения тонов в бедной в тональном отношении черно-белой гамме), то в цветном кино с самого начала использовался только низкоконтрастный, но яркий свет, четко выделяющий окрашенные объекты – это было связано как с очень ограниченными возможностями ранних цветных пленок, так и с отсутствием в цветном кино прямой необходимости расширения тональной гаммы с помощью света. Красная пустыня, в которой везде (за исключением эпизода фантазии) применено освещение настолько рассеянное и неяркое, что насыщенность используемых цветов значительно снижается, задала своего рода полюс световой нейтральности в цветном фильме. После этого кинематографисты стали активно двигаться в противоположном направлении, пока Бертолуччи не снял в 1970 фильм Конформист (Il conformista) практически полностью в высококонтрастном освещении.
К концу 1960-х – началу 1970-х цветные фильмы стали заметно преобладать над черно-белыми (в США это произошло раньше), и, соответственно, перевернулось понятие нормы: если раньше нормативным решением было черно-белое, а само по себе использование цвета неизбежно претендовало на художественную значимость (и то же самое можно было сказать про цветные вставки в черно-белых фильмах – например, упомянутые эпизоды в …стране Оз и в Иване Грозном или финальная часть Андрея Рублева), то с этого времени ситуация поменялась на противоположную (и, аналогичным образом, на особую значимость стали претендовать черно-белые вставки в цветных фильмах – например, сновидения в фильмах Тарковского Зеркало (1974) и Ностальгия (Nostalghia, 1982)). Это привело к двояким последствиям: с одной стороны, использование цветной пленки перестало предъявлять к авторам особые художественные требования, и в дальнейшем в большей части цветных фильмов цвет используется просто как некая данность, не особенно осмысленная художественно. Но с другой стороны, повсеместное использование цвета дало всем авторам возможность обнаружения новых способов работы с ним.
В результате, в этот переходный период были сделаны многие важные цветовые достижения, причем многие из них – в фильмах режиссеров не первого ряда. Прежде всего это относится к методам изменения естественных цветов: во-первых, съемочным, таким как, например, съемка в специфических цветовых условиях восхода или заката без корректирующего светофильтра, в результате чего изображение приобретает неестественно красную тональность (в фильме Клода Лелуша Мужчина и женщина (Un Homme et une Femme, 1965)). Во-вторых, лабораторным, таким как снижающая насыщенность цветов латенсификация, или как печать позитива с двух идентичных, но различающихся по цветам негативов – последний метод активно применялся в кино до конца 1980-х (например, в Жертвоприношении (Offret, Sacrificatio, 1986) Тарковского), пока не был вытеснен компьютерными технологиями.
Еще дальше в этом отношении продвинулся Стенли Кубрик, добившийся лабораторными методами в эпизоде полета через пространство-время в фильме 2001: Космическая одиссея (2001: A Space Odyssey, 1968) произвольного изменения цветов объектов. Но, пожалуй самым радикальным примером обращения с цветом были отдельные кадры в начальном эпизоде Безумного Пьеро Годара, сделанные целиком в одном цвете – красном, синем и желтом – что одновременно и показывает новые возможности цвета, и возвращает к кинематографу начала 20 в.
Другие новшества.
Высококачественная цветная пленка была не единственным техническим достижением, которым воспользовался кинематограф конца 1960-х.
Повышение светочувствительности черно-белой пленки в начале 1960-х к концу десятилетия привело к заметному изменению подхода к киноосвещению. Если раньше в условиях недостаточной освещенности – в естественных интерьерах и на натуре в темное время суток – приходилось применять значительную дополнительную подсветку, что делало световой рисунок в этих сценах достаточно условным и в конечном счете сказывалось на типе и степени условности света в кинематографии в целом, то теперь появилась возможность снимать в сложных условиях лишь с минимальной подсветкой или вообще без нее (эти приемы наиболее активно разрабатывались в Новой волне). В результате освещение в кино – сначала в черно-белом, а затем и в цветном – стало гораздо менее условным (и это составляет, пожалуй, наиболее характерное визуальное отличие современных фильмов от фильмов, снятых до конца 1950-х), что дало дополнительные возможности в создании как жизнеподобных, так и условных картин.
Третьим заметным явлением такого рода (также связанным с улучшением характеристик кинопленки) было изменение формата кадра. В течение большей части истории кинематографа сложившееся в силу достаточно случайных причин еще во времена Эдисона и Люмьеров отношение горизонтальной к вертикальной стороне кадра 4:3 (1,33:1) было основным и по сути единственным. Это же отношение сторон было перенято и телевидением, и до сих пор в большинстве телевизоров оно именно такое (здесь стоит отметить, что пропагандируемый в современном телевидении формат 16:9 – то есть 1.77:1 – не соответствует ни одному из распространенных киноформатов). Поэтому при возникновении сильной конкуренции со стороны телевидения кино стало активно обращаться к широкоэкранным системам, некоторые из которых были разработаны еще в конце 1920-х. Формат кадра в системах, применявшихся в 1950-е, варьировал от 2,2:1 до 2,66:1, но получившая наибольшее распространение как в США, так и в Европе и в СССР широкоэкранная система имеет соотношение сторон, близкое к 7:3 – 2,35:1.
Однако широкоэкранное кино ни в коей мере не могло претендовать на всеобщее применение, поскольку оно подходит для масштабных эпических композиций (как, например, в Андрее Рублеве), но ни в коем случае для камерного психологического кино, причем не только из общеэстетических соображений, но и из того элементарного обстоятельства, что на изолированном крупном плане человеческого лица при широкоэкранной съемке примерно две трети кадра остаются незаполненными. В то же время, и классическое соотношение 4:3 является не самым выигрышным, и как только возник сам по себе вопрос об изменении формата кадра без изменения всей технологии кинопроцесса, кинематограф стал тяготеть с соотношению сторон, близкому к золотому сечению (это примерно 1,62:1). В результате был разработан формат 5:3 (1,66:1), на который европейское кино полностью перешло уже к концу 1960-х (в России это произошло только после распада Советского Союза, в котором ранее этот формат не применялся вообще); в США примерно в это же время стал доминировать формат, компромиссный между европейским и широким – 1,85:1.
Изменение формата кадра, во-первых, позволило более органично использовать заложенный в кинематографе изобразительный потенциал, а во-вторых, само по себе наличие нескольких форматов дало кинематографистам возможность выбирать тот из них, который наиболее адекватен поставленной художественной задаче, что способствовало как увеличению эстетического качества среднестатистического фильма, так и росту авторской свободы. Этому способствовали и другие технические приспособления, получившие массовое распространение в середине 1960-х – прежде всего, средства перемещения камеры.
Естественно, большая часть такого рода приспособлений, не очень сложных в своей технической основе, была разработана и иногда применялась и раньше, но к концу 1960-х частота их использования и разнообразие применяемых средств значительно возросли, что было следствием, во-первых, экономического благополучия, позволившего увеличить средний бюджет фильма, и во-вторых, окончания периода значительных языковых открытий конца 1950-х – начала 1960-х, в силу чего кинематографисты заинтересовались сравнительно факультативными средствами киновыразительности. В результате в наборе используемых в типичном фильме способов перемещения камеры к простому горизонтальному движению добавились вертикальное (хотя используемый для него операторский кран начал применяться уже в 1930-е) и отчасти напоминающее наезд или отъезд камеры, но визуально существенно отличное от него изменение фокусного расстояния объектива в процессе съемки (трансфокация или зумирование; необходимая для этого оптика была разработана еще в конце 1920-х, но до середины 1960-х она применялась лишь эпизодически – впрочем, в 1960-е у трансфокаторов резко улучшилось качество и снизилась цена), а также вертолетные съемки (благодаря изобретению средств стабилизации дрожащего изображения).
В итоге те режиссеры, которые были заинтересованы в динамичном длинном плане или в движении камеры как средстве непрерывного наблюдения за протеканием разнообразных жизненных проявлений (такие как Антониони, Янчо или Тарковский), равно как и режиссеры, интересующееся способами безмонтажного построения эпизода (прежде всего это относится к американским кинематографистам, традиционно тяготеющим к повествовательности), получили новые возможности для достижения своих целей, а все остальные получили эффективные средства улучшения художественного качества своих фильмов.
Эти нововведения – цвет, свет, формат и сложное движение камеры – по отдельности не создали радикально новых эстетических возможностей (не говоря уже о киноязыковых), но укоренившись в нормативной киностилистике все вместе, они привели к тому, что кино заметно изменилось. Ранее типичный фильм – т.е. такой, авторы которого не ставили перед собой значительных художественных задач – делался в строгом соответствии с четкими принципами, сформировавшимися в середине 1910-х и скорректированными с приходом звука в 1930-х, и выраженного собственного лица не имел. Теперь же появились возможности для проявления некоторого разнообразия внутри этой жесткой структуры, которая остается основой киноповествования и поныне: строить эпизод более монтажно или чаще применяя движения камеры, использовать более естественное или более условное освещение, выбирать ту или иную цветовую гамму, пользоваться всей шириной кадра или нет.
К такого рода свободе узкоэстетического характера, развившейся в кино в 1960-е, следует добавить и еще более важную свободу: свободу применять или не применять в организации в целом нормативного фильма киноязыковые открытия предыдущего периода. К концу 20 в. это приведет к тому, что разница между арт-кино и мейнстримом начнет постепенно стираться, но что касается конца 1960-х, то в этом периоде наиболее существенным представляется то, что впервые в истории кино каждый автор – сколь угодно коммерческий – стал волен выбирать для своей картины практически все наличные в кинематографе возможности.
Стагнация (1967–1994).
В целом, к 1970-м в кинематографе сложилась двойственная ситуация, которая по сравнению с предыдущими периодами развития кино (когда киноязык и киноэстетика бурно развивались при любых подходящих внешних обстоятельствах) может показаться несколько парадоксальной. С одной стороны, экономическое процветание на Западе, развитие технических средств, плюрализм эстетических, стилистических и языковых возможностей, и, наконец, окончательное утверждение кинематографа в качестве признанного большого искусства (как раз к этому времени кино стало изучаться во многих университетах как академическая дисциплина) создали беспрецедентную свободу для всех авторов, включая и работающих в мейнстриме. Но с другой стороны, после интенсивного поиска языковых и выразительных средств в начале 1960-х кино стало развиваться экстенсивно, эстетически осмысливая технические нововведения (цвет, новые форматы кадра, средства перемещения камеры) и осваивая сделанные ранее открытия, но, за редкими исключениями, не обнаруживая ни радикально новой эстетики, ни новых тем, ни, тем более, нового языка – т.е. эту свободу оказалось не к чему применить. И, обобщая, можно отметить, что такая двойственность сочетания больших возможностей и незначительности задач, к которым можно приложить эти возможности, в целом является отличительным свойством современного периода развития кино – с середины 1960-х и далее.
Семидесятые в Европе.
Одной из лучших иллюстраций яркого авторского самовыражения в условиях языковой и стилистической стабильности являются поздние фильмы Луиса Бунюэля – едкие, даже издевательские картины философской направленности, основанные на виртуозной игре со сложившимися условностями и неоднозначными элементами нормативного киноязыка (для чего требуется, чтобы эти элементы и сам киноязык утвердились). Движение к такому построению фильма Бунюэль, всегда создававший авангардные ленты на основе нормативной киноэстетики, начал еще в первой половине 1960-х (Ангел-истребитель (El angel exterminador, 1962) и Симеон-столпник (Simón del desierto, 1965)), и завершенности своей эстетики достиг к концу десятилетия, когда открытия в киноязыке прекратились, и общепринятая стилистка устоялась.
В картинах Дневная красавица (Belle de jour, по роману Жозефа Кесселя, 1967) и Скромное обаяние буржуазии (Le Charme discret de la bourgeoisie, 1972) Бунюэль экспериментирует с отношениями «реального» и воображаемого на экране (можно вспомнить, что свободный переход между ними был основным достижением кинематографа начала 1960-х). В фильме Млечный путь (La Voie lactée, 1969) режиссер работает с условностями времени и даже пространства в кино. Наконец, в последних двух картинах режиссера – в Призраке свободы (Le Fantôme de la liberté, 1974) и в Этом смутном объекте желания (Cet obscure objet du desir, 1977) – формообразующей основой является нарушение базовых структур киноповествования: раскрываемой средствами драматургии взаимосвязи событий в первом случае и непрерывности персонажа во втором. В результате в этих фильмах через зыбкость восприятия кинореальности декларируется зыбкость человеческого восприятия внешнего мира – в этом смысле поздние картины Бунюэля являются тонкими аллегориями идеи агностицизма.
Те режиссеры, которые ранее не переосмысливали приемы киноязыка, а создавали их, в 1970-е демонстрируют отсутствие заметного творческого развития: в картинах Антониони, Бергмана, Брессона, Годара, Куросавы или Рене этого периода – по-прежнему часто весьма интересных (как правило, это работы, относящиеся к началу периода: Фотоувеличение (Блоу-ап, Blow-up, 1966), Забриски Пойнт (Zabriskie Point, 1969) и Профессия: репортер (Professione: reporter, также The Passenger, 1975) Антониони, Шепоты и крики (1972) Бергмана, Додескаден (Dodeska-den, также Под стук трамвайных колес, 1970) Куросавы) – в целом нет существенных эстетических и даже тематических нововведений. Интересно, что эти авторы, независимо от возраста, и за исключением, разве что, Бергмана и Годара, в 1970-е резко снижают свою продуктивность. Федерико Феллини, крупнейший новатор в послевоенном кинематографе, в этот период обращается к созданию на экране полуфантастического несколько гротескного ирреального мира, в котором, однако, заметны отзвуки проблем мира реального: начиная с картины Феллини – Сатирикон (Fellini – Satyricon, по Петронию, 1968) и далее отчасти в Риме (Roma, 1972), в некоторых сценах Амаркорда (Amarcord, 1973) и особенно в Казанове Федерико Феллини (Il Casanova di Federico Fellini, 1976). Такая стилистика, не поддающаяся воспроизведению другими авторами, не может быть отнесена к сфере языковых поисков, и, скорее, является некоей реакцией на слишком сильное жизнеподобие, установившееся в кино с приходом цвета, реалистического освещения и др.
Для поколения, пришедшего на смену классиков предыдущего периода, и освоившего языковые и художественные достижения кино 1960-х, все же в основном характерен интерес не столько к эстетической, сколько к тематической составляющей кинематографа. В Италии это блестяще владеющий цветом и светом, но сосредоточенный прежде всего на политике и сексе и их взаимосвязи Бернардо Бертолуччи (Конформист (1970), Последнее танго в Париже (Ultimo tango a Parigi, 1972), Двадцатый век (Novecento, также 1900, 1976)); изучающий социальные связи в историческом контексте Этторе Скола (Мы так любили друг друга (C'eravamo tanto amati, 1975), Бал (Le bal, 1983)); снимающий неторопливые минималистские пасторали Эрманно Ольми (Дерево для деревянных башмаков (L'albero degli zoccoli, 1978) и др.); обеспокоенные социальными проблемами юга Италии братья Паоло и Витторио Тавиани (Отец-хозяин (Padre padrone, по роману Г.Ледды, 1977)); декларирующий в позднебунюэлевской манере разложение современного общества Марко Феррери (Большая жратва (La grande bouffe, 1973)). Пьер Паоло Пазолини, отвлекшийся от идеологии в т.н. «трилогии жизни» (Декамерон (Il decamerone, по Боккаччо, 1971), Кентерберийские рассказы (I racconti di Canterbury, по Чосеру, 1972) и Цветок тысячи и одной ночи (Il fiore delle mille e una notte, 1974)), завершает свой жизненный путь фильмом, в котором пытается представить психическую патологию как продукт буржуазной культуры и общества (Сало или 120 дней Содома (Saló o le centoventi giornate di Sodoma, 1975)).
В оправившейся от послевоенного шока Германии возрождение киноискусства начинается с т.н. Оберхаузенского манифеста (1962), авторы которого настаивали на необходимости развития низкобюджетного социально-ориентированного арт-кино и через некоторое время добились государственной поддержки своего проекта. Подписавшие манифест режиссеры и их последователи известны под общим названием «молодое немецкое кино» (а затем «новое немецкое кино»). Наиболее интересными представителями течения являются Райнер Вернер Фассбиндер, снимавший в несколько декадентской визуальной манере (зеркала, окна, дверные проемы и выстроенные через них многоплановые композиции) драмы о том, как разбиваются чувства в бездушной социальной атмосфере (Торговец четырех времен года (Händler der vier Jahreszeiten, 1972), Замужество Марии Браун (Die Ehe der Maria Braun, 1979), Тоска Вероники Фосс (Die Sehnsucht der Veronika Voss, 1982)), а также Фолькер Шлендорф (Жестяной барабан (Die Blechtrommel, по роману Г.Грасса, 1979)) и Вернер Херцог (Стеклянное сердце (Herz aus Glas, 1976)).
Несколько иной была ситуация в СССР, где невозможность прямого высказывания на актуальные или, тем более, политические темы дополнительно провоцировала авторов обращаться не к тематической, а эстетической составляющей фильма. Отар Иоселиани в создаваемой с помощью мелких бытовых деталей и тщательно подобранной шумовой и музыкальной среды сдержанной интеллектуально-иронической манере показывает бренность бытия как одного человека (Жил певчий дрозд (1970)), так и целых культур (Пастораль (1975) и последующие картины, снятые во Франции). Аниматор Юрий Норштейн сочетает двухмерную технику перекладки (в ней фазы движения формируются перемещением или заменой физически не связанных между собой элементов объектов) с трехмерными ярусными декорациями и применяет множество других оригинальных технических приемов, чаще всего направленных на смягчение изображения, обычно в анимации довольно жесткого, и на естественность внедрения в анимационное изображение неанимационных элементов. В результате в картинах Ежик в тумане (1975) и Сказка сказок (1979) создается атмосфера неповторимости и зыбкости мироздания, в котором так важны хрупкие взаимоотношения.
Наконец, автобиографический фильм Андрея Тарковского Зеркало (1974) в некотором смысле является развитием идей 8 1/2 Феллини методами Антониони. В картине свободно переплетаются как различные временные пласты (современность, 1930-е, 1940-е), так и различные модальности («реальность» – как игровая, так и документ; воспоминание; сновидение), а основную роль в показе состояний персонажей играет предметная среда – сами предметы, их движения, форма, фактура, освещение, цвет. Но, в отличие от Антониони, показывавшего через предметную обстановку состояния находящихся в кадре персонажей, Тарковский часто (особенно в сновидениях) передает через предметы состояния персонажей, которых мы не видим – прежде всего, авторское состояние (как условного автора фильма, так и не разу не появляющегося на экране персонажа, называемого Автором; в этом смысле картина весьма интересна и с точки зрения проблемы автора в кинематографе).
В следующей картине Сталкер (1979) Тарковский переводит этот принцип на качественно иной уровень – в трехминутном проезде по лежащим в луже предметам в сцене отдыха эти предметы уже передают не состояние кого-либо из персонажей, а выражают достаточно отвлеченную мысль о закате цивилизации (одновременно являющуюся и одной из центральных мыслей фильма в целом). Таким образом, был найден еще один способ прямого выражения процесса мышления на экране, причем в непрерывном развитии, а не с помощью монтажных сопоставлений (как это делалось, например, в прологе фильма Персона Бергмана; кстати, в обоих случаях опорную роль играют предметы, имеющие очевидную культурную отнесенность: кинопроектор, забиваемый в ладонь гвоздь, морг у Бергмана, и шприц, монеты, икона, пистолет у Тарковского). И это открытие, по существу являющееся логическим итогом поисков начала 1960-х, оказалось единственным киноязыковым достижением 1970-х.
Семидесятые в США.
Характер развития американского кино 1970-х заметно отличался от европейского не только в силу большей ориентации кинематографа США на коммерческий результат, а не на художественный (чем вызывалось большинство различий двух кинематографий, начиная, по крайней мере, с середины 1910-х), но и вследствие возникновения в Америке двух новых факторов, один из которых можно назвать социально-экономическим, а другой – культурно-историческим.
Во-первых, определявшая направление движения американского кино с середины 1950-х борьба с телевидением за зрителя, сначала шедшая по всему фронту, постепенно привела к своего рода джентльменскому разделу аудитории: киноиндустрия все меньше и меньше интересовалась зрителями зрелого возраста (на которых были рассчитаны все заметные фильмы классического Голливуда) и все больше сосредотачивалась на молодом зрителе – молодежи и старших подростках (на которых рассчитаны – или, по крайней мере, сделаны с учетом их интересов – все высокобюджетные современные американские фильмы). Этот процесс стал оказывать заметное влияние на кино США уже к середине 1960-х, и в 1970-е впервые в списке самых кассовых фильмов десятилетия две лидирующие позиции заняли чисто молодежные фильмы (в дальнейшем же количество таких позиций только возрастало).
Во-вторых, примерно в это же время в тематическом плане американское кино стало намного чаще обращаться к проблематике насилия как такового – насилия в его иррациональном аспекте. Поскольку в Европе этот процесс, в целом, произошел на двадцать лет позже, а в экономически неблагополучных странах этого не случилось до сих пор, естественно связать выход насилия на экран с уходом его из актуальной жизни большинства населения (что в Европе могло произойти только после того, как основную часть зрителей стали составлять люди, не помнящие Второй мировой войны, в США прямо затронувшей немногих).
Эти две тенденции объединились в самом заметном голливудском фильме 1960-х – в картине Артура Пенна Бонни и Клайд (Bonnie and Clyde, 1967) о двух легендарных молодых бандитах 1930-х. И поскольку герои декларировали, что они применяют насилие только в отношении сотрудников банков, которые они грабили, и полицейских, то в контексте молодежного движения конца 1960-х они приобрели романтические черты борцов с капиталистической системой. Но с узкокинематографической точки зрения в фильме интереснее всего сцена гибели героев, которая стала образцом для такого рода сцен на несколько десятилетий вперед. Сцена была очень жестко смонтирована из кадров, снятых не только с разных точек и в разной крупности (что было бы лишь адаптацией традиции Эйзенштейна, Куросавы и Хичкока), но также и с применением самой разнообразной оптики (до того использовать в одной сцене и широкоугольные, и длиннофокусные объективы считалось неправильным, поскольку они создают существенно различную геометрию видимого пространства) и, главное, с разной скоростью съемки: некоторые кадры были сняты рапидом.
Замедляющий время рапид, пожалуй, идеально подходит для съемок критических моментов жизни и особенно ее конца – как по соображениям психологии персонажа (известно, что в экстремальной ситуации психологическое время течет медленнее, что и является основой мотивации этого приема), так и по авторским художественным соображениям: по прагматическим (он позволяет рассмотреть событие подробнее), по повествовательным (он акцентирует важность события), по философским (он, по словам Тарковского, «позволяет вглядеться в движение времени») и т.д. Но при этом рапид, обычно эстетизирующий показываемое на экране, в западной культуре, не помещающей смерть в область прекрасного, по отношению к сценам насилия и смерти оказывается в несколько двойственном положении. И если Пенн, которого по большей части беспокоили прагматическая и повествовательная составляющие, или Тарковский (годом раньше в Андрее Рублеве активно применявший рапидные съемки в том числе и в сценах насилия), которого в основном интересовали, напротив, философский и психологический аспекты, могли себе позволить проигнорировать указанное противоречие, то такой режиссер, как Сэм Пекинпа, поставил рапид в центр своей эстетики. В его фильмах, начиная с Дикой банды (The Wild Bunch, 1969), почти неизменно снимаемые рапидом многочисленные сцены жестокости приобретают возвышенную, спокойную, почти буддистскую красоту, придающую происходящему особую значительность.
У режиссеров, продолжавших ориентироваться на традиционную аудиторию, тема насилия в том или ином виде также часто занимает важное место. У Френсиса Копполы, снимавшего на различном материале трагедии о людях, действовавших достойно и правильно, но в результате терявших себя или даже вообще человеческий облик (Крестный отец (The Godfather, по роману М.Пьюзо, 1972), Разговор (The Conversation, 1974), Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now, по Дж.Конраду, 1979)), насилие – чаще физическое – обычно оказывалось движущей пружиной событий, приводящих к падению героя. Насилию как естественному выражению свойственной человеку агрессивности, связанной, в свою очередь, с подавленной сексуальностью, посвящены фильмы Мартина Скорсезе (Таксист (Taxi Driver, 1976), Бешеный бык (Raging Bull, 1980)). Прежде всего проблемы агрессии и насилия – физического и психического – исследуются в лучшем фильме Стенли Кубрика Заводной апельсин (A Clockwork Orange, по роману Э.Берджеса, 1971). Наконец, фильм Милоша Формана Полет над гнездом кукушки (One Flew Over the Cuckoo's Nest, по роману К.Кизи, 1975), центральный в творчестве режиссера, является притчей о психологическом давлении на человека общества и власти, которые не гнушаются применить к непокорным и разрушительное физическое воздействие.
Но эта тематика не была единственной в американском киноискусстве. Роберт Олтман снимал коллективные портреты различных слоев американского общества (M.A.S.H. (1970), Нэшвилл (Nashville, 1975) и др.), разрабатывая при этом виртуозную технику движения камеры и экспериментируя с одновременным звучанием нескольких реплик. Вуди Аллен рисовал юмористический портрет испуганного городского интеллектуала (Энни Холл (Annie Hall, 1977) Манхэттен (Manhattan, 1979) и др.), которого сам и играл. Боб Фосс – хореограф по основной специальности – поднял мюзикл на качественно новый уровень, превратив танцевально-музыкальные номера из вставного комментария к банальному сюжету в органическую часть серьезного драматического действия (Кабаре (Cabaret, 1972), Вся эта суета (All That Jazz, 1979)).
Также не затрагивают тему насилия и режиссеры, откровенно ориентирующиеся на подростковую аудиторию (они и добились наибольшего коммерческого успеха), снимавшие увлекательные приключенческие фильмы с четким противопоставлением добра и зла (при этом зло у них часто имеет метафизическую природу и иногда даже деперсонализовано – т.е. оказывается не вполне существующим реально). Это Джордж Лукас (Звездные войны. Эпизод IV (Star Wars. Episode IV, 1977)) и прежде всего – Стивен Спилберг, начинавший, кстати, с притчи о насилии Дуэль (Duel, 1971): Челюсти (Jaws, 1975, фильм является экранизацией второсортного романа П.Бэнчли, но отсылает, скорее, к Моби Дику Г.Мелвилла и к Старику и Морю Э.Хэмингуэя), Инопланетянин (E.T. The Extra-Terrestial, 1982) и др. В 1980-е эту традицию продолжил ученик Спилберга Роберт Земекис, в фильме Кто подставил кролика Роджера? (Who Framed Roger Rabbit?, 1988) сочетавший «живых» и анимационных персонажей, что интересно обыгрывало двойственную плоскостно-пространственную природу кино.
Восьмидесятые в целом.
В 1980-х – в начале 1990-х кино развивалось еще медленнее, чем в предшествующее десятилетие. Эстетические революционеры 1960-х постепенно сходят со сцены, социальные протестанты 1970-х теряют свой боевой дух, и на смену им не приходят сопоставимые по таланту художники, и отсутствуют какие-либо внешние факторы, способные стимулировать киноискусство. Практически не появляются и новые эстетико-технические средства: многоканальная звукозапись, позволяющая локализовать звук даже за спиной зрителя, не создала заметных художественных возможностей, а время визуальных компьютерных эффектов пришло несколько позже.
Тем не менее, достигают своего творческого пика художники, начинавшие свою карьеру ранее. В СССР это, прежде всего, Алексей Герман, снимающий картины, в которых повествовательная система как бы отрицает саму себя, и, тем самым, заставляет присмотреться к изображению, которое тщательно реконструирует былую эпоху, раскрывая трудноуловимую подоплеку происходящих на экране событий и глубинные механизмы Истории (Мой друг Иван Лапшин (1984) и Хрусталев, машину! (1998)). Александр Сокуров, формально принадлежащий к следующему поколению, но представляющий предшествующую традицию, последовательно борется в кино с телесностью в пользу духа (зачастую понимаемому как смерть, иногда даже буквально), разрушая для этого сначала традиционные повествовательные структуры фильма (Одинокий голос человека (по рассказу А.Платонова Река Потудань, 1978, прокат 1987)), а затем также и изобразительные, прибегая для этого к оптическим и химическим искажениям киноизображения (Камень, 1992). В Западной Европе это Отар Иоселиани, продолжающий создавать картины о конфликте культур – устоявшейся и утонченной старой и грубой новой (Фавориты луны (Les Favories de la lune, 1984), Охота на бабочек (La Chasse aux papillon, 1992), In vino veritas (также Прощай, дом родной!, Adieu, plancher des vaches!, 1999)), и Вим Вендерс, в несколько отстраненной манере снимающий фильмы об отчуждении (Небо над Берлином (Der Himmel uber Berlin, также Крылья желания, 1987)).
Среди художников нового поколения более всех заметен босниец Эмир Кустурица, создавший в фильме Время цыган (Дом для повешения, Dom za vesanje, Time of the Gypsies, 1989) свою оригинальную эстетику, в значительной степени основанную на ярких, эмоциональных, романтичных и в то же время ироничных визуальных метафорах, укорененных в балканской культуре и одновременно заставляющих вспомнить фильмы Феллини 1970-х. Начинавший как аниматор американец Тим Бертон также выделяется своей способностью создать на экране эстетически целостный и выразительный фантастический мир, будь это мир загробный (Битлджус (Beetlejuice, 1988)), мир мифов о нечистой силе (Сонная лощина (Sleepy Hollow, 1999)) или даже сказочный мир детских комиксов (Бэтмен (Batman, 1989)). Неторопливое и сдержанное течение картин финна Аки Каурисмяки (например, Жизнь богемы (La Vie de Bohéme, 1992)) время от времени прерывается неожиданными философски-ироническими деталями; в фильме Юха (Juha, 1998) такое происходит и на узкоэстетическом уровне: в целиком немой (!) ленте временами раздаются синхронные шумы некоторых объектов. Также неторопливы и медитативны фильмы нидерландского режиссера Йоса Стеллинга (Иллюзионист (De Illusionist, 1983), Стрелочник (De Wisselwachter, 1986)), в которых визуальный пласт явно преобладает над сюжетным. Наконец, посвященные различным аспектам любви и секса картины испанца Педро Альмодовара (Матадор (Matador, 1986), Женщины на грани нервного срыва (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988)), напротив, весьма динамичны и сняты в кричащей цветовой гамме, подчеркивающей невротичность персонажей и действия.
Перечисленных режиссеров нового поколения объединяют две особенности: во-первых, они (за исключением Бертона) представляют страны, никогда ранее не входившие в число лидеров, и во-вторых, им (за исключением Стеллинга) свойственно говорить хотя и о достаточно серьезных вещах, но в легкой и ироничной манере. Первое, по-видимому, связано с двумя обстоятельствами – во-первых, с общими процессами глобализации, превратившими весь мир в единое кинематографическое пространство: например, уже с 1970-х оказывается затруднительным определить принадлежность некоторых европейский фильмов к той или иной конкретной стране; в настоящее время это часто просто невозможно, поскольку фильмы обычно снимаются в международной копродукции интернациональной съемочной группой (поэтому в последующих разделах государственная принадлежность фильмов и режиссеров не указывается). И во-вторых – с интересом слабеющего западного кино к потенциально могущему гальванизировать его кинематографу развивающихся стран, что, в свою очередь, связано и с процессами культурной глобализации.
Возникший интерес западного кино к иным культурам проявляется как в самих фильмах западных режиссеров (например, у Джима Джармуша, постоянно обращающегося к темам и ценностям разнообразных культур – какой-либо одной, как, например, индейской в психоделическом по атмосфере фильме Мертвец (Dead Man, 1996), или же сразу многим, как в фильме Ночь на земле (Night on Earth, 1991), построенном из разрозненных эпизодов, происходящих в разных странах), так и в быстро меняющейся моде на кино доселе экзотических в кинематографическом отношении стран. Сначала это был Китай с его тысячелетней традицией изящного использования цвета – режиссеры Чжан Имоу (Красный гаолян (Hong gao liang, 1987)) и Чен Кайге (Прощай, моя наложница (Bawang bie ji, 1993)). Затем Иран – режиссеры Мохсен Махмальбаф (Миг невинности (Nun va goldun, 1997)) и Аббас Киаростами (Под оливами (Zire darakhatan zeyton, 1994)), искавшие философскую значительность в элементарных бытовых событиях. В этом смысле их можно рассматривать как наследников традиции Сатьяджита Рея, наследовавшего, в свою очередь, неореализму; в то же время, оба режиссера, часто обращающиеся в своих фильмах к показу процесса кинопроизводства, связаны и с традицией Новой волны. Наконец, последняя по времени мода на кино юго-восточной Азии (Гонконг, Тайвань, Южная Корея) имеет не столько эстетический, сколько тематический характер: в дальневосточной культуре, в силу отсутствия в ней европейского противопоставления тела и духа, гораздо спокойнее отношение к насилию, и сцены жестокости в кино этих стран снимаются со впечатляющим хладнокровием.
Что касается несерьезной формы подачи серьезного материала в большинстве лучших фильмов десятилетия, то это, очевидно, связано с доминирующим в этот период направлением западной мысли – с постмодернизмом, представителями которого перечисленных режиссеров назвать нельзя, но который, конечно, оказывал влияние на атмосферу времени и, как следствие, на кинематографию в целом.
Постмодернизм и кино восьмидесятых.
Постмодернизм (этимология этого слова не «после модернизма» или «после модерна», а «после современности») как интеллектуальное течение сформировался в стабильную постиндустриальную эпоху в условиях отсутствия (по сравнению со всеми предыдущими периодами) фундаментальных социально-экономических проблем и исторических вызовов, и неудивительно, что в обществе, лишенном определенных целей и задач, возникла философия, декларирующая несуществование чего бы то ни было определенного, и столь же неудивительно, что после 11 сентября 2001 постмодернизм довольно быстро практически сошел на нет.
Центральной идеей постмодернизма является тезис о равноправии всех возможных дискурсов, или же, проще говоря, отрицание возможности существования истины как чего-то непреложного (интересно, что многие идеологи постмодернизма склонны рассматривать идею отсутствия единственной истины как единственно верную истину; аналогичным образом, дискредитируя многие привычные концепции как мифологические, постмодернисты сами создают миф о мифологичности принятых теорий). В области искусства наиболее важными следствиями этого является, во-первых, то, что в культуре с мощной интеллектуальной традицией отказ от поисков новых объективных истин приводит к мысли, что «все уже сказано», в результате чего, во-вторых, мир начинает рассматриваться через призму культуры в целом («мир как текст»), и основной акцент в произведении переносится с его собственной эстетики и содержания на разнообразные культурные коды – так возникает цитатность как формообразующий элемент произведения (интертекстуальность). В-третьих, отказ от традиционной категории истины также приводит к устранению любых культурных иерархий и оппозиций (противопоставления высокой/низкой культуры и др.) и смешению в одном произведении разных жанров, элементов различных культур и т.д. (нетрудно заметить, что это также и еще одна причина интереса к экзотическим кинематографиям). В-четвертых, отказ от привычных оценочных оппозиций, строгих иерархий и критериев истинности приводит к пониманию мира вообще и культуры в частности как состоящих из разрозненных фрагментов, связь между которыми не только не прослеживается, но и вообще не может быть установлена («мир как хаос»). Наконец, в-пятых, отрицание понятия истины и, следовательно, понятий добра и зла, вызывает моральный релятивизм и, соответственно, ироничное отношение к описываемым или показываемым событиям, что в конечном итоге приводит к уменьшению эмоциональной вовлеченности в них зрителя (и позволяет свободно обращаться с рискованным или ранее запретным материалом).
Из сказанного следует, что в кинематографе постмодернизм – в отличие от предшествующих направлений в истории кино – не был ни эстетическим течением, ни идеологическим (если не считать идеологией принципиальный отказ от всякой идеологии), ни, тем более, тематическим. Соответственно, нельзя говорить ни о специфической эстетике постмодернизма, ни о его собственной тематике, и единственным исключением здесь является пункт о фрагментированности мира, который в кино может быть более или менее непосредственно воплощен с помощью рваного калейдоскопического монтажа – и действительно, во многих постмодернистских картинах применяется именно такой монтаж, но это не вполне обязательный и вовсе не специфический эстетический признак течения. Поэтому постмодернистские произведения в кино сильно отличаются друг от друга по всем параметрам, но, тем не менее, перечисленные свойства задают некие рамки, позволяющие распознать конкретный фильм как постмодернистский.
Первым фильмом, удовлетворяющим этим признакам, можно считать снятый не только за два десятилетия до появления постмодернизма в кинематографе, но и за десятилетие до возникновения самого этого понятия в философии, фильм На последнем дыхании Годара. Действительно, фильм полон цитат из различных произведений различных искусств и отсылок различным культурным феноменам, причем в равной мере как к «высоким», так и «низким»; именно в этой картине впервые была предложена система фрагментирующего мир рваного монтажа; наконец, в ней не выражена авторская оценка действий главного героя, вполне криминального типа. Но несмотря на огромное влияние, оказанное Новой волной в целом и Годаром в особенности на формирование кинопостмодернизма, основную роль в этом течении сыграли другие, более молодые, художники – прежде всего, Дэвид Линч и Питер Гринуэй.
В отличие от фильмов большинства постмодернистов, в картинах Гринуэя (Зет и два нуля (A Zed and Two Noughts, 1985) и др.) основной эффект создается не столько повествованием, обычно неактивным и апсихологичным (хотя сама сюжетная ситуация – как правило, отвлеченная сдержанно-циничная – вполне постмодернистская по духу), сколько изображением, цитирующим разнообразные произведения мировой живописи или стилизованным под разных художников, а также и цитатной постмодернистской музыкой Майкла Наймана. Линч, напротив, работает с динамичным, но откровенно клишированным сюжетом, насыщенным мифологическими элементами (которые он демифологизирует, одновременно утверждая новые псевдомифологемы), и воплощаемым с помощью либо какой-то одной стилистики (по существу чуждой характеру сюжета – в фильме Человек-слон (Elephant Man, 1980)), либо в свободной комбинации различных стилей – в особенности масскультовых, – спаянных в единое целостное пространство (наиболее характерный фильм – Твин Пикс: Огонь, иди со мной (Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992)). Такое ненавязчивое снятие культурных оппозиций в этом отношении заметно отличает Линча от раннего Годара, у которого контраст различных стилистик, наоборот, подчеркивался, создавая эффект коллажности – скорее модернистский (в буквальном смысле слова), чем постмодернистский.
Рафинированно-изобразительный постмодернизм Гринуэя оказался менее близок остальным режиссерам направления, чем сравнительно несложный для подражания постмодернизм Линча, который не разрушает повествовательную структуру и позволяет играть со стилями и цитатами как бы на втором плане, не отвлекая внимания неискушенного зрителя. В результате появилось довольно большое число фильмов со вполне банальной сюжетной интригой, обычно криминальной, но в которой подготовленный зритель при желании может обнаружить россыпи разнообразных цитат и аллюзий, причем чаще всего аллюзий не столько на классику арт-кино, сколько на классику того же криминального жанра. Стоит отметить, что, в отличие от авторов Новой волны – детей фильмотеки, в равной мере ориентировавшихся как в жанровом, так и в арт-кино, – поздние постмодернисты оказались первым поколением, выросшим в видеотеке, в которой, естественно, жанр заметно превалирует над артхаусом.
Среди фильмов такого рода наиболее значительным является Бульварное чтиво (Pulp Fiction, также Криминальное чтиво, 1994) Квентина Тарантино (работавшего, кстати, в видеопрокате), насыщенное цитатами из фильмов едва ли не из всех голливудских жанров и одновременно подрывающее все жанровые структуры. Это оказалось весьма удобным в контексте тематического развития американского кинематографа: ироническая дистанция по отношению к происходящему оказывается столь значительной, что насилие в кадре начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся и, во всяком случае, не страшное (это открыло дорогу большому количеству фильмов, например, про чистых сердцем наемных убийц).
Но наиболее интересным в кинематографическом отношении в этом фильме являются не столько интертекстуальные игры, сколько постмодернистская деконструкция, которой Тарантино подверг повествовательную структуру своего фильма: картина состоит из нескольких довольно слабо связанных между собой сюжетов, которые излагаются не только попеременно, но и в произвольной временной последовательности – середина каждого из сюжетов может предшествовать его началу, и персонаж, убитый в одном из фрагментов фильма, может через некоторое время появиться в другом. При этом в отличие от ситуации с разрушением сюжетной связности в бунюэлевском Призраке свободы, где самодостаточность повествовательных кодов раскрывает, скорее, невозможность или неадекватность познания мира человеком, чем фрагментированность самого мира, в Бульварном чтиве, которое несмотря на перетасовку эпизодов продолжает восприниматься как целостная история, утверждается не только хаотичность и фрагментированность самого мира, но и примат текста над реальностью, которая уже не анализируется текстом, а по существу, этим всеобщим Текстом творится.
Кино и телевидение (1994–…).
К середине 1990-х взаимоотношения между телевидением и кино изменились коренным образом – по сути дела, можно говорить об инверсии ведущего и ведомого.
Развитие телевидения и пленочное кино.
Телевидение, изобретенное в США в 1931 (регулярное вещание началось в 1936) Владимиром Зворыкиным, ставшее цветным с 1953 в США и с 1967 в Европе, получившее популярность в первые послевоенные десятилетия, с тех пор являвшееся серьезным конкурентом киноискусства в культурно-экономическом плане, и развившееся к концу 20 в. в одно из наиболее важных мировых социокультурных явлений, в эстетическом и киноязыковом отношении все это время было весьма примитивным и отсталым – по сути дела, до середины 1980-х язык телевидения не продвинулся дальше языка «кино говорящих голов» (talkies) Голливуда 1930-х.
Это было обусловлено прежде всего техническими причинами: прямой эфир, в течение двадцати лет бывший единственной формой существования телевидения, создает невиданные доселе возможности мгновенной передачи изображения на расстояние (эффект присутствия), благодаря которым ТВ уже в 1960-е стало доминирующим средством массовой информации, но является системой крайне скудной в языковом аспекте – в нем, естественно, невозможны переходы во времени и затруднена свободная переброска в пространстве, т.е. в этом отношении язык прямоэфирного телевидения даже беднее киноязыка начала 1910-х. Отсюда возникает необходимость в записи телевизионного изображения, но система видеозаписи, впервые представленная для профессионального применения в 1956 фирмой Ampex, долгое время имела невысокое качество и была неудобной в использовании (особенно это относилось к монтажу). Поэтому в течение значительной части истории телевидения (с 1950-х до конца 1970-х) основной способ демонстрации предварительно записанного изображения состоял в съемке на 16-мм киноленту (стандарт, первоначально разработанный как кинолюбительский), обычного киномонтажа и превращения изображения в телевизионный сигнал непосредственно в момент показа.
Тем самым, в тех областях, где не имели значения преимущество прямого эфира и преимущество прямой доставки изображения к зрителю на дом (т.е. везде, кроме новостей и развлекательных программ), телевидение оказывалось упрощенным вариантом пленочного кино уже просто по одним только техническим соображениям. При этом упрощенность ТВ была связана не только со вторичностью технологии, но и с низким качеством телеизображения самим по себе: например, малый размер телеэкрана делает затруднительным полноценное использование на телевидении общего плана (эта проблема – как и многие другие, обусловленные общими характеристиками телепроцесса, – не разрешена до сих пор, и в принципе не может быть разрешена в рамках существующих форматов вещания).
Естественно, в таких обстоятельствах конкурировать с постоянно развивавшемся в языковом, эстетическом и техническом отношении пленочным кинематографом было бессмысленно. Но в 1980-е положение изменилось: с одной стороны, заметно возросло качество светочувствительных элементов в телевизионных камерах и повсеместно внедрялись новые системы видеозаписи (прежде всего разработанная фирмой Sony система Betacam), обеспечивающие существенно более высокое качество записываемого, обрабатываемого и передаваемого изображения и гораздо более удобные в работе, и, наконец, были разработаны новые люминофоры (вещества, непосредственно создающие изображение на телеэкране), значительно улучшившие качество изображения, видимого зрителем, что в сумме ощутимо сократило разрыв в качестве между ТВ и пленочным кино. А с другой стороны, застой в киноискусстве 1970–1980-х избавил телевидение от положения вечно догоняющего и позволил сократить разрыв также и в художественном отношении.
В то же время, развитие электронных методов работы с изображением оказало влияние и на пленочный кинематограф. Применение в нем компьютеров для, первоначально, создания спецэффектов а затем и в процессе всего монтажа – для чего, требуется перевести изображение в электронную форму – привело к тому, что в настоящее время в пленочном кино кинопленка используется только при съемке и показе фильма, но не в промежуточных операциях. Более того, благодаря разработке к концу 1990-х систем видеозаписи высокого разрешения (некоторые из них – прежде всего, HighDefinition – уже сопоставимы по качеству с традиционной химической кинотехнологией), при производстве некоторых кинофильмов кинопленка применяется уже только при печати фильмокопии. С другой стороны, и в телевизионном производстве, когда требуется особо высокое качество цветопередачи, иногда до сих пор используется кинопленка. В результате, эта путаница с носителями изображения, активный обмен эстетическими нововведениями между ТВ и пленочным кино (о чем речь ниже) и, наконец, распространение в середине 1980-х бытовых видеомагнитофонов привели к заметному размыванию границ между кино и телевидением – по сути дела, разница между двумя явлениями сохранилась только институциональная.
Все это крайне обострило вопрос о том, являются ли кино и телевидение одним и тем же феноменом в коммуникационном и эстетическом смысле, или нет? С нашей точки зрения, кинематографом следует считать любую систему, позволяющую воспроизводить произвольное плоское ограниченное изображение и допускающая монтажную склейку, поэтому в собственно коммуникационном плане телевидение и основанное на фотохимическом процессе пленочное кино являются просто двумя видами кинематографа, и в эстетическом плане они также исключительно близки по своей природе, хотя в плане социокультурном это, конечно, совершенно различные феномены.
Однако сама по себе эстетическая близость двух явлений и появление подходящих условий для развития одного из них еще не гарантируют такого развития – нужна еще и конкретная область, где это развитие может иметь место. Ни один из классических телевизионных жанров – в силу их жесткой заданности и консервативности – для этого не подходил; потребовалось возникновение нового жанра, не имевшего аналогов ни в истории телевидения, ни, по большому счету, в истории пленочного кино. Такому жанру естественнее всего было появиться не на пустом месте, а возникнуть в результате трансформации уже существовавшего жанра, имевшего при этом достаточно свободную форму. И самым подходящим оказался музыкальный жанр, бывший для ТВ головной болью: для успешной конкуренции с радио современную музыку надо транслировать, но синхронная концертная обстановка не слишком выразительна на маленьком экране; кадр лучше заполнить чем-нибудь другим. Так возник музыкальный клип.
Клипы.
Хотя в настоящее время музыкальные и рекламные клипы имеют достаточно сходную эстетику, развиваются совместно и снимаются одними и теми же авторами, генетически и исторически они существенно отличаются. Если рекламные ролики, примерно столь же старые, как само телевидение, первоначально строились как маленькое кино и по законам «большого» повествовательного кинематографа (к тому же, сначала они появились на киноэкране, а на ТВ их использование стало возможным только в начале 1950-х, когда была разработана технология телетрансляции киноизображения), то музыкальные клипы, сформировавшиеся в самостоятельное явление в начале 1980-х, основаны на несколько иных принципах, о чем свидетельствует и само слово «клип» (clip, в данном случае – нарезка), которым назывался короткий рекламный ролик полнометражного фильма, не претендующий на сюжетную связность, но состоящий из более или менее эффектно смонтированных наиболее выразительных моментов фильма, иными словами, драматургия в таком ролике преимущественно неповествовательная.
С другой стороны, давняя традиция создания визуальных иллюстраций к музыкальной теме в «большом кино», являющаяся (наряду с мюзиклом) прямой предтечей музыкального клипа как жанра, также тяготеет к чисто изобразительной драматургии. Таким образом, музыкальный клип унаследовал от кинотрадиции стремление (у лучших образцов жанра) к созданию изображения, адекватного сути музыки, а от клипа – нарезки полнометражного фильма – жесткий короткий монтаж. При этом агрессивность и некоторая бессвязность клипового монтажа оказалась допустимой в 1980-е не только из-за наличия традиции клипа-нарезки, но и из-за свойственной постмодернизму фрагментарной картине мира, в которой связность монтируемых изображений может не рассматриваться как обязательное свойство произведения. Наконец, утилитарная задача клипа – подложить эффектную картинку под музыку – не накладывала никаких ограничений на характер изображения и, тем самым, позволяла жанру свободно развиваться, создавая все возможности для поисков новых средств выразительности.
В результате уже к концу 1980-х в клипах появились некоторые средства, ранее в кинематографе неизвестные, а сфера применения многих средств, уже разработанных в кинематографе, была расширена. Внутри кадра это, во-первых, сверхширокоугольная оптика (тем более, что относительно маленький экран телевизора делает оптику ощутимо широкоугольнее), глубинные композиции и условные декорации. Во-вторых, выразительные сверхкрупные планы, в «большом кино» практически не использовавшиеся. В-третьих, активное свободное движение камеры, расширившее возможности применения длинного плана (по средней длительности плана клипы четко делятся на две категории: тяготеющие к суперкороткому монтажу и сделанные одним кадром – в соответствии с обычной длительностью песни, трех-четырехминутным). Наконец, это цветовые искажения изображения, резкие сочетания цветов и цвета, не встречающиеся в природе («кислотные цвета», называемые так по изменяющему цветоощущение диэтиламиду лизергиновой кислоты (ЛСД), играющему, наряду с другими наркотиками, важную роль в современной музыкальной культуре). В дальнейшем к этому добавилось произвольное изменение скорости течения времени в кадре (причем как в сторону замедления ее, т.е. рапиду, достаточно разработанному в пленочном кино, так и в сторону кратковременного ее ускорения, которое в «большом кино» не изучалось), сочетание в одном кадре элементов, относящихся к различным повествовательным пластам и модальностям, иные способы компьютерной трансформации изображения и некоторые другие приемы.
Но, конечно, основные достижения видеоклипов были связаны с монтажом – причем, в отличие от внутрикадровой ситуации, не с открытием каких-либо новых монтажных приемов (по-видимому, в клипах не было обнаружено ни одного ранее не встречавшегося в кино конкретного монтажного приема или признака, за исключением мгновенного изменения части изображения, что, скорее, следует рассматривать как внутрикадровое нововведение), а с изменением отношения к монтажу как таковому. Таких достижений два: скорость и произвольность. В пленочном кино с конца 1910-х до середины 1980-х средняя длительность плана в обычном фильме колебалась от пяти до пятнадцати секунд, лишь в единичных случаях опускаясь до четырех секунд, и никогда – менее, чем до трех. В современном монтажном клипе средняя длина плана колеблется от одной до трех секунд, и иногда опускается даже до трех четвертей секунды, приближаясь к физиологическому пределу, за которым изображение просто перестанет полноценно восприниматься. В коротком монтаже самом по себе нет ничего ни хорошего, ни плохого, а важно, что раскрыты новые возможности, теоретически заложенные в кинематографе, но остававшиеся необнаруженными; режиссер не должен монтировать сцену с десятка точек, но теперь, если ему это понадобится, он может это сделать.
Что же касается идеи произвольности сополагаемых на склейке изображений, то в эстетическом отношении помимо очевидного вреда – отмена традиционных требований к повествовательной или хотя бы ассоциативной связности монтируемых кадров позволила многим клипмейкерам не утруждать себя заботами и о какой бы то ни было смысловой связности этих кадров (это привело к тому, что для многих кинематографистов словосочетание «клиповая эстетика» стало синонимом кинематографической халтуры), – она принесла и несомненную пользу. Во-первых, смягчение любых ограничений, увеличивая авторскую свободу, всегда позволяет вдумчивым художникам добиваться новых интересных результатов – и действительно, в некоторых клипах смысловая глубина монтажных ассоциаций весьма значительна. Во-вторых, многие ограничения на пространственные и особенно временн  е переходы в нормативном киноязыке были избыточными и, по существу, уже не соответствовали языковым возможностям кинематографа, сложившимся после революции начала 1960-х, и отказ от них произошел именно в клипах с их свободными пространственно-временными переходами, основанными не столько на устоявшихся условностях, сколько на сформировавшихся у зрителя представлениях о сути происходящего. Это привело, в-третьих, к существенному обогащению потенциальных повествовательных возможностей киноязыка.
е переходы в нормативном киноязыке были избыточными и, по существу, уже не соответствовали языковым возможностям кинематографа, сложившимся после революции начала 1960-х, и отказ от них произошел именно в клипах с их свободными пространственно-временными переходами, основанными не столько на устоявшихся условностях, сколько на сформировавшихся у зрителя представлениях о сути происходящего. Это привело, в-третьих, к существенному обогащению потенциальных повествовательных возможностей киноязыка.
Характер развития видеоклипов, акцентирующих изобразительный аспект киноязыка и монтажные структуры, заставляет вспомнить о кино 1920-х, которое изучало те же самые средства кинематографического выражения, и это сходство совершенно закономерно: музыкальные клипы, в которых, вообще говоря, отсутствуют шумы и диалог, а музыка дается заранее (и, следовательно, не может быть приемом режиссерского выражения), по сути дела, являются в буквальном смысле немым кино. Поэтому естественно, что в клипах продолжился оставшийся незавершенным после прихода звука поиск изобразительных средств, обогащенный повествовательными и изобразительными возможностями, обнаруженными в кинематографе за последующие шесть десятилетий.
В то же время, современные клипы как общекультурное явление скорее напоминают более ранний период развития кино. Лишенные самостоятельного культурного статуса и признания в качестве художественного явления, не имеющие в большинстве случаев указания на авторство, и, к тому же, неизбежно воспринимающиеся вторичными по отношении к музыкальному произведению и зачастую ориентированные на промоушн исполнителя, редко обладающего актерским дарованием, клипы –воспринимаются обществом (и, отчасти – и в результате этого, самими клипмейкерами) как некое однородное явление «низкой культуры», не способное к выражению серьезного эстетического содержания – т.е. находятся в положении кинематографа 1900-х, или, в лучшем случае, начала 1910-х.
Возможно, с этим обстоятельством отчасти связано и то, что несмотря на значительную художественную выразительность отдельных клипов и множество нововведений, имевших место в клиповой эстетике в целом, большая часть клипов представляет собой достаточно слабое в художественном отношении зрелище – особенно в смысловом аспекте: редкий из клипов претендует на то, чтобы выражать идеи более глубокие, чем это принято в примитивной мелодраме (иногда это оправдано малой продолжительностью произведения – если выражаемая идея воплощена достаточно полно и эффектно, но гораздо чаще клипы оказываются пустоватыми). Тем самым, в клипах на новом уровне повторяется отмеченная выше проблема, свойственная всему кинематографу последних сорока лет – огромное и постоянно увеличивающееся богатство выразительных средств используются для достижения весьма малозначительных эстетических и смысловых (в широком понимании этого слова) целей.
«Большое кино» и телевидение.
Итак, к началу-середине 1990-х телевидение, подталкиваемое развитием клиповой эстетики (которая постепенно проникла во все телевизионные жанры, хотя и в разной степени: от определяющей в межпрограммном оформлении – термин включает в себя также и внутрипрограммные шапки, отбивки и пр., – до отдельных элементов в наиболее консервативном жанре политических новостей, где все же стало применяться внутристудийное движение камеры), из конкурента пленочного кино в экономическом плане, но отсталого беспомощного нахлебника в плане эстетическом, превратилось в основной генератор эстетических идей, вынуждающий застывшее в собственном развитии «большое кино» так или иначе следовать за ним.
Уже к началу 1990-х появляются кинофильмы, заимствующие некоторые разработанные в клипах приемы (например, Деликатесы, (Delicatessen, 1990) Жана-Пьера Жене и Марка Каро), но пока еще в рамках в целом достаточно традиционной повествовательной структуры и привычной тематики (чаще постмодернистской). Но к концу десятилетия постепенно распространяются фильмы, целиком выполненные в клиповой стилистике, основанные на свойственной клипам системе повествования и иногда даже обнаруживающие новую тематику, – такие как Трейнспоттинг (Trainspotting, также На игле, 1997) Денни Бойла и особенно Беги, Лола, беги (Lola rennt, Run Lola Run, 1998) Тома Тыквера, в котором помимо всех обычных стилистических клиповых особенностей также как равноправные элементы используются игровые и анимационные фрагменты, и где основная сюжетная ситуация повторяется трижды (причем в течение большей части времени почти без изменений).
В значительной степени влиянием клипов, и в несколько меньшей – Бульварного чтива, объясняется заметное увеличение свободы обращения со временем в современном кино – в очень многих фильмах, в самых интересных из которых сама свободная временная конструкция позволяет выразить идеи, до того в кино не выражавшиеся: например, в той же картине Беги, Лола, беги, посвященной непредсказуемости воздействия незначительных изменений в настоящем на будущее. Наиболее радикальным примером является Слон (Elephant, 2003) Гаса Ван Сента, снятый сопровождающей персонажей непрерывно движущейся камерой длинными планами, которые неожиданно резко обрезаются, и время после этого может непредсказуемо сместиться вперед или назад. В результате первые три четверти фильма, действие в котором происходит на ограниченном пространстве в течение очень небольшого временного интервала, оказываются состоящими из своего рода перекрывающихся пространственно-временных лоскутов, с разных точек зрения реконструирующих события в провинциальном американском городке (тематически фильм разрабатывает проблему иррационального насилия, но с непривычной для кинематографа периода 1990-2000-х серьезностью), что в целом воплощает мысль о неповторимости и непостижимости каждого момента текучего времени.
В не меньшей степени, чем на арт-кино, клипы повлияли и на нормативную киностилистику – гораздо чаще, активнее и разнообразнее стало применяться движение камеры, более свободным стало использование оптики (особенно широкоугольной), больше внимания стало уделяться цветовому решению фильма и световому рисунку, но самыми заметными оказались изменения в области монтажа: хотя сплошных исследований средней длительности кадра в фильмах последнего десятилетия не проводилось, ее заметное сокращение очевидно, и среди даже наиболее массовых фильмов часто встречаются такие, где эта величина составляет две-три секунды, в отдельных случаях опускаясь почти до полутора секунд. В целом можно говорить о расширении стандартного инструментария, аналогичном процессу конца 1960-х (тем более, что перечисленное является развитием тех же, что и тогда, приемов киновыразительности), которое – так же, как и конце 1960-х – привело к заметному росту как повествовательного, так и изобразительного разнообразия и в среднестатистическом фильме.
Одновременно новый импульс приобретает разработка возможностей длинного плана, что связано, с одной стороны, с возросшей динамичностью камеры, и с другой – с развитием новых технологий съемки: если с помощью пленочной камеры невозможно снять кадр длительностью более десяти минут, то при применении в кинопроизводстве видеокамеры высокого разрешения всякие ограничения на длину плана снимаются. В результате стали появляться полнометражные фильмы, целиком снятые одним кадром, – это Таймкод (Time Code, 2000) Майка Фиггиса, состоящий из четырех одновременно показываемых непрерывных кадров, действие в которых происходит параллельно и иногда пересекается (этот фильм развивает идею полиэкрана, применяемого еще Абелем Гансом, но не получавшего распространения, пока он не стал активно использоваться на телевидении), и Русский ковчег (2002) Александра Сокурова (в этом однокадровом фильме, снятом с субъективной точки зрения, к тому же свободно меняются исторические эпохи). Что касается новых технологий вообще, то методы компьютерной обработки изображения, весьма распространенные в клипах и революционализировавшие дизайн телевизионного межпрограммного оформления, в «большом кино» по-прежнему, за редкими исключениями, применяются в основном для создания спецэффектов, реже для разного рода модификаций изображения и для сочетания в одном кадре неодновременно снятых элементов.
Итак, в целом большеэкранный кинематограф оказался в плену у телевидения – лишившись собственного внутреннего развития, он с начала-середины 1990-х только адаптирует и доосмысливает достижения «малого экрана». Это не имеет большого значения в узкоэстетическом смысле, а институциональные различия между двумя медиумами существенны только в социокультурном отношении, но разница культурных традиций приводит к серьезным последствиям: в отличие от пленочного кино, телевидение не имеет статуса большого искусства и не имеет традиции художественного осмысления глубоких проблем. Поэтому поглощение кино телевидением может оказаться разрушительным для всего экранного искусства.
Эта проблема является постоянным предметом рефлексии тонко чувствующего ситуацию в кинематографе наиболее значительного режиссера последнего десятилетия Ларса фон Триера, начинавшего в 1980-е с фильмов, снятых в стилистике различных классических режиссеров (Тарковского, Дрейера и др.). Первая важная картина фон Триера, наследующая протестантским притчам Дрейера и Бергмана, Рассекающая волны (Breaking the Waves, 1996) была снята на 16-мм кинопленку в эстетике телерепортажа, но однако ее «главы» отделялись друг от друга по-открыточному красивыми высококачественными пейзажами. В это время режиссер полагал, что кризис «большого кино» связан со злоупотреблением слишком богатым арсеналом доступных кинематографистам средств выразительности, и именно он был вдохновителем манифеста «Догма-95», в котором декларировался отказ от большинства существующих технико-эстетических средств кино (в том числе и от кинопленки). По мысли авторов манифеста, это должно было привести к большей правдивости и глубине фильма, но на деле это просто означало привлечение в профессиональное кино элементов домашнего видео и видеоарта, и в результате среди нескольких десятков сертифицированных «Догмой» картин обращает на себя внимание только фильм Идиоты (Idioterne, 1998) того же фон Триера.
Следующий фильм режиссера Танцующая во тьме (Dancer in the Dark, 2000) развивается в двух пластах – реальном и идеальном, причем первый из них выполнен в эстетике, промежуточной между телерепортажем и «Догмой», а второй – в эстетике видеоклипа, хотя и несколько сдержанной (характерно, что музыкальные номера, из которых состоит идеальный пласт, демонстрировались по MTV среди «настоящих» клипов). Таким образом, телевизионная эстетика, оставаясь предметом анализа, полностью завладела киноискусством даже в тех областях, на которые само ТВ и клипы не претендовали. В следующем своем фильме Догвиль (Dogville, 2003), хотя и по-прежнему снятом видеокамерой, фон Триер окончательно отказался от претензий на реалистичность, и сделал его в декорациях, условных даже по театральным меркам – контуры помещений были просто нарисованы на полу студии. Если правдоподобие телевизионных новостей и любительского видео не решает проблему, то почему бы не обратиться к другой крайности? Хотя и это не будет окончательным решением.
Сергей Филиппов
Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М., 1957
Knight A. The Liveliest Art. N.Y., 1957
Садуль Ж. Всеобщая история кино. М., 1958–1982, тт. 1–4, 6
История зарубежного кино (в 3 тт.). М., 1965–1981
Теплиц Е. История киноискусства (в 4 тт.). М., 1968–1974
Mitry J. Histoire du Cinema (5 vols.). P., 1968–1980
Mast G. A Short History of the Movies. Chi., 1971
Robinson D. The History of World Cinema. N.Y., 1973
Rhode E. A History of the Cinema from Its Origins to 1970. L., 1976
Ellis J. A History of Film. Englewood Cliffs (N.J.), 1979
Cook D. A History of Narrative Film. N.Y., 1981
Thompson K., Bordwell D. Film History: An Introduction, 1994
Паркинсон Д. Кино (в серии «Оксфордская библиотека»). М., 1996
The Oxford History of World Cinema (ed. by Nowell Smith G.), Oxford etc., 1996
Sklar R. A World History of Film, N.Y., 2002
Ответь на вопросы викторины «Наше кино»